Александр Боровский
Заведующий отделом новейших течений ГРМ
Заведующий отделом новейших течений ГРМ
Новый Дик
“
Творческое наследие Петра Дика живёт своей жизнью — к нему обращаются искусствоведы, издаются посвященные ему книги, проходят выставки — в главных музеях обеих столиц, в городах Германии, но особенно широко — и для художника это было бы всего значимее — в музеях любимой им русской провинции. Всё это происходит не только потому, что у художника есть круг верных почитателей в России и в Германии, хотя их роль в осуществлении этой самостоятельной жизни (и прежде всего деятельность вдовы художника, архитектора К.С.Лимоновой, выступающей, весьма профессионально, как хранитель и популяризатор этого наследия) трудно переоценить. То есть речь идёт не только о дани памяти, не о мемориальном аспекте, который, естественно, во всем этом присутствует. Видимо, творческий опыт Дика объективно важен для современного художественного процесса. Обращение к этому опыту вносит определенные коррективы в устоявшийся образ российского искусства последней четверти прошлого века. Причем коррективы эти – вне ставшей хрестоматийной оппозиции официальное-неофициальное. Похоже, они затрагивают само существо нашего искусствопонимания. Затрагивают по двум, по крайней мере, линиям. Одну я бы связал со становлением, так сказать, внецехового понимания самого типа современного художника. Дик, думаю, не задумывался об этом специально, и уж, во всяком случае, едва ли рассматривал себя в контексте политизации художественного процесса, однако само развитие его искусства ломало заданные ещё в раннесоветский период и воспринимавшиеся как должное институциональные рамки, преодолевало деление этого процесса на живопись, графику и так далее. Это деление имело свою идеологию и прагматику, об этом - ниже. Вторая линия более важна. Дик был верен своему материалу и технике, но, главное, верен тому одухотворенному отношению к реальности, которое и было для него естественным и единственно возможным . Оно и легло в основу его поэтики.
Конечно, эта поэтика имеет свои истоки. Прежде всего, отсылает к так называемому третьему пути российского искусства в довоенный его период, который пролегал между, условно говоря, «авангардом» и «официозом». Этот путь уже давно интересует историков отечественного искусства конца 1920-х-30-х гг. (О.Ройтенберг, А.Якимович, А.Успенский). В позднесоветские времена видение художественного процесса не столько усложнилась, сколько перефокусировалась на проблематику официальное-неофициальное, сдобренную довольно высокомерно обозначенной художественной критикой поколения 1980-х гг. темой «разрешенности» ( «левый МОСХ», «левый ЛОСХ» и пр.). Вскоре господствующим типом искусствопонимания стало искусство идей, различные изводы концепта. Тот тип мышления, который, по моему убеждению, сохранял определенную преемственность с арт-практикой «третьего пути», так же присутствовал в пространстве андеграунда и постсоветского искусства. Его было принято маркировать именами тех мастеров андеграунда, которые сохранили не только озабоченность материальным планом живописной репрезентации, его процессуальностью, но и артикулировали проблематику спиритуального: Д.Краснопевцев, Э.Штейнберг, М.Шварцман, В.Вейсберг, Б.Свешников и др. (Ситуация вне этого пространства андеграунда критикой, претендующей на актуальность, почти не принималась в расчёт. Отсечение «чужих» - типичное следствие аберрации искусствоведческого зрения девяностых, вызванное упрощением понимания художественного процесса, согласно которому единственно современное в нём есть – «другое искусство» (неофициальное, «второй авангард», андеграунд, - все эти определения взаимозаменяемы). Парадоксальным образом, эта ситуация почти зеркально отражала спрямленную версию искусствопонимания, принятую не официозом даже, а либеральной статусной критикой позднесоветского периода. Она - иногда вынужденно, а часто и сознательно, исходя из собственных представлений о «подлинно культурном», - не учитывала в своих раскладах как раз – андеграунд). Это направление было названо – с большой долей условности - метафизическим. Сегодня представляется : творчество Дика объективно имеет точки соприкосновения с этим направлением. Но задачи настоящей работы анализом этого «сближения», разумеется, не ограничиваются. Мне хотелось бы - насколько это в моих силах – рассмотреть творчество Дика и в его конкретике, и в определенных обобщениях культурологического плана. То есть контекстуализировать в реальном, а не идеологизированном пространстве искусства последней четверти века : «поверх барьеров» - концептуальных и институциональных ( цеховых). Тем более, что реактуализация мессаджа Дика зависит от того, что на первый план искусствовосприятия снова выходит не мгновенное считывание смыслов, не предсказуемая, ожидаемая реакция на «выводы» ( концепты), а «ближнее чтение» ( closereading): гуманная, неторопливая процессуальность общения с произведением. Медитативный ресурс поэтики Дика раскрывается именно в подобном темпоральном режиме. Всё совпало. Ничего не бывает случайным.
П.Дик никогда не был аутсайдером: он всегда широко выставлялся, был замечен. Просто в последние годы пришло его время. Время углубленного понимания мессаджа художника.
Конечно, эта поэтика имеет свои истоки. Прежде всего, отсылает к так называемому третьему пути российского искусства в довоенный его период, который пролегал между, условно говоря, «авангардом» и «официозом». Этот путь уже давно интересует историков отечественного искусства конца 1920-х-30-х гг. (О.Ройтенберг, А.Якимович, А.Успенский). В позднесоветские времена видение художественного процесса не столько усложнилась, сколько перефокусировалась на проблематику официальное-неофициальное, сдобренную довольно высокомерно обозначенной художественной критикой поколения 1980-х гг. темой «разрешенности» ( «левый МОСХ», «левый ЛОСХ» и пр.). Вскоре господствующим типом искусствопонимания стало искусство идей, различные изводы концепта. Тот тип мышления, который, по моему убеждению, сохранял определенную преемственность с арт-практикой «третьего пути», так же присутствовал в пространстве андеграунда и постсоветского искусства. Его было принято маркировать именами тех мастеров андеграунда, которые сохранили не только озабоченность материальным планом живописной репрезентации, его процессуальностью, но и артикулировали проблематику спиритуального: Д.Краснопевцев, Э.Штейнберг, М.Шварцман, В.Вейсберг, Б.Свешников и др. (Ситуация вне этого пространства андеграунда критикой, претендующей на актуальность, почти не принималась в расчёт. Отсечение «чужих» - типичное следствие аберрации искусствоведческого зрения девяностых, вызванное упрощением понимания художественного процесса, согласно которому единственно современное в нём есть – «другое искусство» (неофициальное, «второй авангард», андеграунд, - все эти определения взаимозаменяемы). Парадоксальным образом, эта ситуация почти зеркально отражала спрямленную версию искусствопонимания, принятую не официозом даже, а либеральной статусной критикой позднесоветского периода. Она - иногда вынужденно, а часто и сознательно, исходя из собственных представлений о «подлинно культурном», - не учитывала в своих раскладах как раз – андеграунд). Это направление было названо – с большой долей условности - метафизическим. Сегодня представляется : творчество Дика объективно имеет точки соприкосновения с этим направлением. Но задачи настоящей работы анализом этого «сближения», разумеется, не ограничиваются. Мне хотелось бы - насколько это в моих силах – рассмотреть творчество Дика и в его конкретике, и в определенных обобщениях культурологического плана. То есть контекстуализировать в реальном, а не идеологизированном пространстве искусства последней четверти века : «поверх барьеров» - концептуальных и институциональных ( цеховых). Тем более, что реактуализация мессаджа Дика зависит от того, что на первый план искусствовосприятия снова выходит не мгновенное считывание смыслов, не предсказуемая, ожидаемая реакция на «выводы» ( концепты), а «ближнее чтение» ( closereading): гуманная, неторопливая процессуальность общения с произведением. Медитативный ресурс поэтики Дика раскрывается именно в подобном темпоральном режиме. Всё совпало. Ничего не бывает случайным.
П.Дик никогда не был аутсайдером: он всегда широко выставлялся, был замечен. Просто в последние годы пришло его время. Время углубленного понимания мессаджа художника.
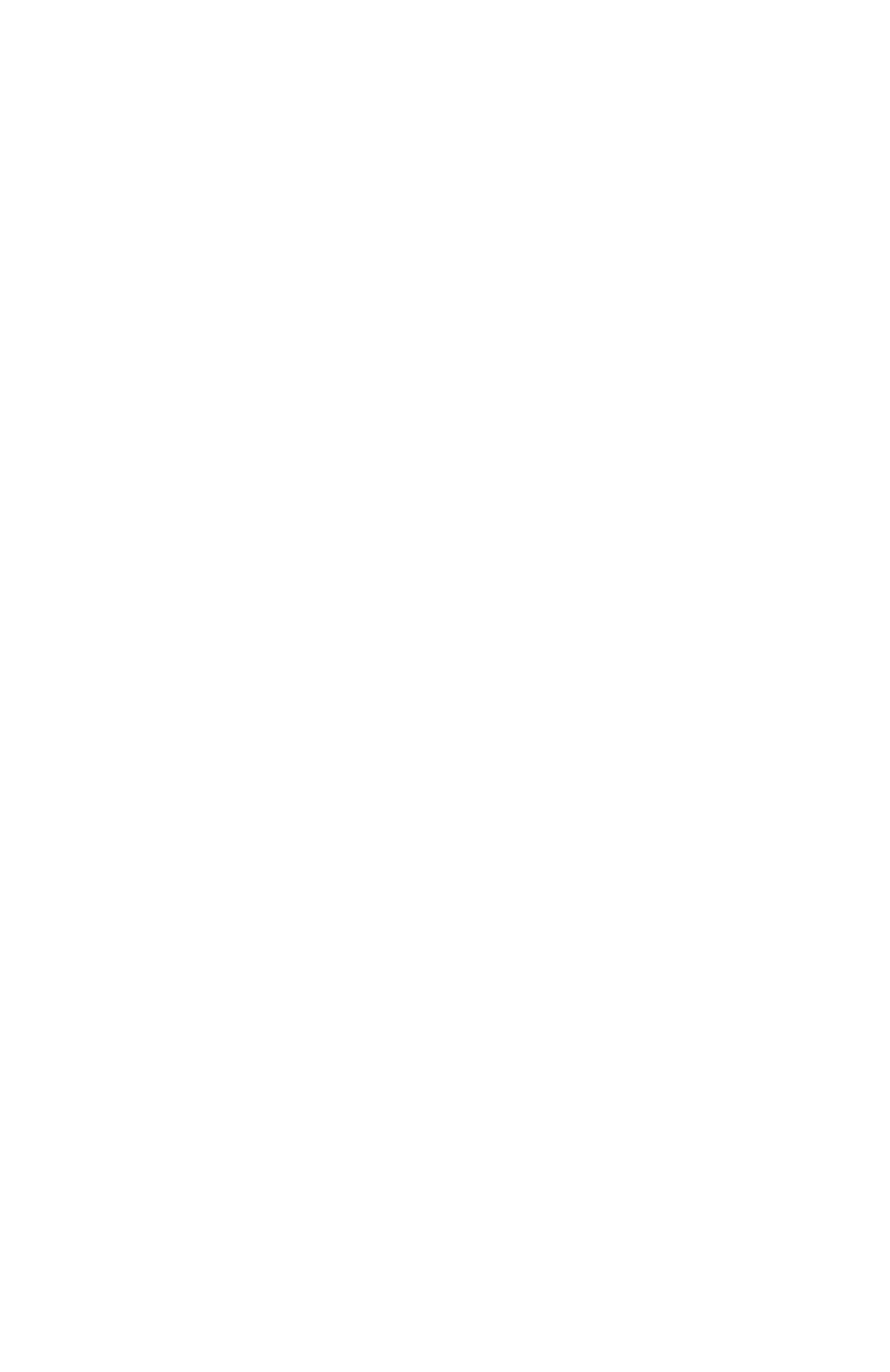
“
Петр Гергардович Дик родился в 1939 г. в селе Глядень Благовещенского района Алтайского края. В семье этнических немцев (первые поселенцы-немцы появились на Алтае ещё в демидовские времена, основная волна колонистов – в связи со столыпинскими реформами - пришлась на начало века). Оба обстоятельства – и биографическое, и топологическое – сыграли огромную роль в жизни художника. «Я русский художник (воспитан на русской культуре, немец по происхождению, русский по образованию, языку и культуре», - вспоминает Дик*. Быть российским немцем - многое значило для середины века. Да и позднее отзывалось. Не педалируя, по советской привычке, «национальный вопрос», вспомним хотя бы несколько имен – Нейгауз, Раушенбах, Рихтер, Шнитке, – великие, при этом отчетливо драматические судьбы.
«Первое, что на памяти из тех лет, это смерть отца. Уже взрослым я узнал, что он вернулся в конце сорок второго больным туберкулезом. В это же время, по известному приказу Сталина о тотальной мобилизации всех немцев СССР, забрали в трудармию и маму. Меня, трехлетнего, вынуждена была взять тетка, у которой – двое своих детей. Я прожил у неё до сорок шестого года, не вернулась мама. Жизнь первых послевоенных лет была не лучше, чем в годы войны: тот же голод, та же необходимость бороться за выживание. К тому же – жизнь под надзором комендатуры. Моей реакцией на всё окружающее было сильное сопротивление. Я ощущал фальшивость, не мог поверить, что моих родителей убрали потому, что сделали что-то плохое, и мне должно быть стыдно за то, что я – немец. Я не мог этого допустить».** Второе обстоятельство, базисное для мироощущения будущего художника, - природа. «Я родился в степном Алтае. Безбрежное море ковыля и огромное небо. Ветер гуляет по степи, ковыль стелится, словно волны бегут по морю. Любой элемент, появлявшийся в этом пространстве, воспринимается значимо - ощущение некого космического начала».*** Впоследствие он будет вспоминать: «Из всех пейзажей мне ближе всех, которые с дальним плоским горизонтом: равнины, пустыни, песочные и каменистые, которые с черными плоскими горами или нежно-голубыми горными грядами на высоте глаз. Там теряется чувство времени, и за линией горизонта видится всегда что-то, что вселяет надежду»****. Запомним эти слова – алтайская природа, действительно, заложила какие-то основы пространствопонимания художника. Что-то особенное было в этих местах – недаром П. Басманов, тоже алтайский уроженец, петербургский художник старшего поколения, с которым Дик наверняка был знаком, всю жизнь писал, по сути дела, один пространственный мотив – «соотношение человека и ровной широкой степи», «постановку фигуры в пейзаже, взаимосвязи живописных масс земли, неба и человека».***** Но это – в будущем, пока же контраст природы с её ощущением космического начал, и несвободы, запретов, обиды формировал драматизм мироощущения, который «не отпускал, как болезнь». Картина мира с детства воспринималась как конфликтная. Идущее от природы и идущее от человеческих установлений трагически не совпадало. Детскую психологическую травму Дик смог отрефлексировать много позднее – «как избыточный драматизм» и даже – «глобальный трагизм». Не только отрефлексировать – в какой-то степени выразить пластическими средствами: думаю, через всю биографию художника прошла тема эскапизма, поиска укрытия, выхода, исхода. Кстати, Указ Верховного Совета СССР от 13.12.1955 года «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находившихся на спецпоселении» был принят только в 1955, а в 1964 тем же Верховным Советом принята частичная реабилитация - решение «Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28. августа 1941 года «О переселении немцев Поволжья»: «Жизнь показала, что огульные обвинения были необоснованны и явились проявлением деспотизма в условиях сталинского культа личности». Прошлое не отпускало.
«Первое, что на памяти из тех лет, это смерть отца. Уже взрослым я узнал, что он вернулся в конце сорок второго больным туберкулезом. В это же время, по известному приказу Сталина о тотальной мобилизации всех немцев СССР, забрали в трудармию и маму. Меня, трехлетнего, вынуждена была взять тетка, у которой – двое своих детей. Я прожил у неё до сорок шестого года, не вернулась мама. Жизнь первых послевоенных лет была не лучше, чем в годы войны: тот же голод, та же необходимость бороться за выживание. К тому же – жизнь под надзором комендатуры. Моей реакцией на всё окружающее было сильное сопротивление. Я ощущал фальшивость, не мог поверить, что моих родителей убрали потому, что сделали что-то плохое, и мне должно быть стыдно за то, что я – немец. Я не мог этого допустить».** Второе обстоятельство, базисное для мироощущения будущего художника, - природа. «Я родился в степном Алтае. Безбрежное море ковыля и огромное небо. Ветер гуляет по степи, ковыль стелится, словно волны бегут по морю. Любой элемент, появлявшийся в этом пространстве, воспринимается значимо - ощущение некого космического начала».*** Впоследствие он будет вспоминать: «Из всех пейзажей мне ближе всех, которые с дальним плоским горизонтом: равнины, пустыни, песочные и каменистые, которые с черными плоскими горами или нежно-голубыми горными грядами на высоте глаз. Там теряется чувство времени, и за линией горизонта видится всегда что-то, что вселяет надежду»****. Запомним эти слова – алтайская природа, действительно, заложила какие-то основы пространствопонимания художника. Что-то особенное было в этих местах – недаром П. Басманов, тоже алтайский уроженец, петербургский художник старшего поколения, с которым Дик наверняка был знаком, всю жизнь писал, по сути дела, один пространственный мотив – «соотношение человека и ровной широкой степи», «постановку фигуры в пейзаже, взаимосвязи живописных масс земли, неба и человека».***** Но это – в будущем, пока же контраст природы с её ощущением космического начал, и несвободы, запретов, обиды формировал драматизм мироощущения, который «не отпускал, как болезнь». Картина мира с детства воспринималась как конфликтная. Идущее от природы и идущее от человеческих установлений трагически не совпадало. Детскую психологическую травму Дик смог отрефлексировать много позднее – «как избыточный драматизм» и даже – «глобальный трагизм». Не только отрефлексировать – в какой-то степени выразить пластическими средствами: думаю, через всю биографию художника прошла тема эскапизма, поиска укрытия, выхода, исхода. Кстати, Указ Верховного Совета СССР от 13.12.1955 года «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находившихся на спецпоселении» был принят только в 1955, а в 1964 тем же Верховным Советом принята частичная реабилитация - решение «Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28. августа 1941 года «О переселении немцев Поволжья»: «Жизнь показала, что огульные обвинения были необоснованны и явились проявлением деспотизма в условиях сталинского культа личности». Прошлое не отпускало.
Из всех пейзажей мне ближе всех, которые с дальним плоским горизонтом: равнины, пустыни, песочные и каменистые, которые с черными плоскими горами или нежно-голубыми горными грядами на высоте глаз. Там теряется чувство времени, и за линией горизонта видится всегда что-то, что вселяет надежду
“
С 1957 по 1962 Дик учился в Свердловском художественном училище. Среди педагогов выделяет Геннадия Сидоровича Мосина, представителя «сурового стиля», чуть позднее, в 1964-м, выставившего свою, по тем оттепельным временам вполне политически острую картину «Политические». Через несколько лет переезжает в центральную Россию, в старинный Владимир. Наверное, с прицелом на «покорение Москвы», которая была сравнительно близко. И действительно, в 1968-м он поступает в Строгановку и переезжает в столицу. Рискну, однако, предположить: Дику важно было и само движение, возможность «перемены мест», - память о «комендатуре», о необходимости «отмечаться», о привязке к определенной «георграфии» была достаточно свежей. С образованием он несколько запаздывает, он почти на десяток лет старше многих студентов. МВХПУ (Cтогановское), не так давно переехавшее в новое здание торжественной неоклассической архитектуры (арх. И.В.Жолтовский и Г.Г.Лебедев), переживало определенный подъём. В своих воспоминаниях о художнике И.Голицын писал: « Петр Дик, как и я, - строгановец. Только он «металлист», а я «деревянщик». Он не стал работать в металле, как и я не стал мебельщиком. Но важно то, что родная Строгановка дала нам такой заряд творчества, такую энергию, гнала нас от лени, звала к целеустремленности».****** Вот что любопытно: Голицын, как и Г.Захаров, другой лидер советской графики, выступивший в начале 1960-х, принадлежит к совсем другому поколению выпускников Строгановки. Они закончили Училище лет на двадцать раньше. Эта хронологическая аберрация понятна и даже символична: за ней – последующее сближение на основе профессиональной, да и духовной, общности интересов. Поколенчески ближе Дику были другие строгановцы – скажем, А.Косолапов, Л.Соков, Д.Пригов, выросшие в лидеров неофициального искусства концептуального плана. Но поколенческая близость не вылилась в духовную. Видимо, в свои «строгановские» годы Дик, попавший в абсолютно новую для него среду, присматривается, осмысливает увиденное, выбирает. В эти годы он ещё не художник большой, выраженной индивидуальности, более того, думаю, профессиональное становление (образование, рукомесло) не коррелируется впрямую со становлением личностным. Проще говоря, как личность он сформировался (скорее, сформировал себя) раньше, нежели как художник. Надо сказать, этот мировоззренческий, мироощущенческий аспект для Дика был чрезвычайно важен, его саморефлексия была вполне осознанна (он называл это – «острее осознавать себя»). Он знал за собой «обнаженность, односторонность, трагизм мировосприятия». Эта была данность, обусловленная опытом жизни. Избывать, изживать его – невозможно. Но – полностью зависеть от этого травматического опыта? «Деление на мир свободы и несвободы условно. Часто они меняются местами. Грань между ними проходит и в нашем сознании. Вот с этой гранью в моем сознании мне и пришлось работать. Я хотел обрести свое видение, самостоятельность, научиться смотреть на все собственными глазами». Очень искреннее самонаблюдение: травматический опыт (всё «биографическое», связанное с несправедливостями, пережитыми в детстве и юности) – неотъемлемая часть индивидуального бытия, это – личное. Вместе с тем, это – и навязанное, связанное с несвободой, с подавлением личности. Мешающее – опять же воспользуюсь авторсим текстом – «проникновению в какие-то глубинные тайны». Становление личности художника, как мы видим, сложный диалектический процесс. «Я понимал, форсировать я ничего не могу, это бессмысленно. <…> Когда я уже учился в Москве, я стал ощущать это состояние как болезнь… Это был огромный период, многие годы жизни». Думается, все эти самонаблюдения в какой-то мере объясняют то, что Дик в свою бытность московским студентом, не был погружен в процессы политизации художественной жизни. Внешние реакции, прямое действие, - всё это для него, с его-то опытом, казалось не продуктивным (Он стремился как раз изжить непосредственно-политическое, - вспомним «грань между свободой и несвободой», о которой он писал: эта грань, в понимании Дика, явно пролегает в сознании, а не в действии. Нечто подобное можно сказать, скажем, и о Ю.Ларине, примерно в то же время, после бесконечных мытарств, получившего возможность переехать в Москву и учиться в Строгановке. Вектор самоуглубленности – «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой….» - и для него был важнее экстравертных проявлений ). Есть и второй момент. Уверен, Дик вполне понимал, что несовместим с официозом. Однако и стремление уже второго поколения неформалов раскачать одервеневшие советские культурные институции, да что там – сам статус «высокого», специально редуцировать язык, культивировать деперсонализацию и растворение в ролевых функциях, артикулировать «плохое искусство», - всё это было – «не его» (Соответственно, не близким воспринимался и акцент на «головное», умышленное, - отсюда – недоверие к различным изводам концептуального искусства. На языке Дика - впрочем, всегда осторожного и никогда не персонализирующего свои оценки - это недоверие выражается в целом наборе авторских лексем: «иллюстрировать задумки», «вставать на голову», «задавать направление – приводить к мертворожденному результату», «холодные, вымученные, умозрительные, выдуманные, плоские вещи»). При этом, уверен, какие-то направления андеграунда, связанные с живописной репрезентацией и со спиритуальными интенциями, были ему близки. Время это показало.
Итак, «строгановские» годы были прожиты Диком под знаком самоуглубления, отказа от коллективных идентификаций и совокупного умокипенья. Он вполне осознавал важность внутренней духовной работы.
Завершив образование, он возвращается во Владимир. Разумеется, тому были житейские, практические и семейные, причины. Но было и другое: осознание опасности для себя как художника, по собственному выражению Дика, «умножать вакханалию и суету».
Итак, «строгановские» годы были прожиты Диком под знаком самоуглубления, отказа от коллективных идентификаций и совокупного умокипенья. Он вполне осознавал важность внутренней духовной работы.
Завершив образование, он возвращается во Владимир. Разумеется, тому были житейские, практические и семейные, причины. Но было и другое: осознание опасности для себя как художника, по собственному выражению Дика, «умножать вакханалию и суету».
Мне бы хотелось погрузить зрителя в атмосферу тишины. Это так естественно, особенно сегодня, когда кругом оглушительные звуки, бешеные ритмы, чтобы услышать и быть услышанным, нужна тишина
“
Умонастроения Дика сосредоточены на тишине. Видимо, тишина для него – синоним самососредоточенности, возможности «работать над собой», ухода от соблазнов и раздражителей внешней, «навязанной» реальности («Тишины хочу, тишины.../ Нервы, что ли, обожжены?/ Тишины», - взывает в стихотворении 1964-го года А.Вознесенский). Это, так сказать, план личной экзистенции. Постепенно появится и план целеполагания, направленности своего искусства: «Мне бы хотелось погрузить зрителя в атмосферу тишины. Это так естественно, особенно сегодня, когда кругом оглушительные звуки, бешеные ритмы, чтобы услышать и быть услышанным, нужна тишина». Это было сформулировано и реализовано много позднее, но, в качестве жизне-творческого плана, задумано в первой половине 1970-х.
Старинный Владимир, расположенный над неторопливой Клязьмой, и поразительно насыщенные историческими достопримечательностями малые города окрест, вполне подходили для осуществления этого плана. Менее двухсот км. от Москвы,- и совсем другое течение жизни. Провинциальность в хорошем, историко-культурном значении – как сама возможность ощутить это течение: от исторических истоков сегодняшней повседневности. Пластика русской архитектуры в её уникальном взаимодействии с пространством: воплощенная способность регулировать временные потоки – обращать их вспять, запускать с опережением, замедлять, давая повод рассматривать на просвет.
Дик полюбил Владимир. Разумеется, историческая уникальность сыграла свою роль. Но город подошел художнику, видимо, прежде всего за возможность осуществить свой план укромной, сокровенной жизни (ценил, наверное, и за близость к Москве - досягаемость выставок, концертов, узкого круга друзей-единомышленников). В тихом провинциальном Владимире (тогда ещё не столь заточенном на международный туризм) была и своя, вполне достойная, среда общения. Более того, здесь культивировалась некая отдельность своей художественной жизни. К 1970-м в СССР стало модно говорить о региональных школах – похоже, даже официальные институции стали понимать удручающую централизацию и унификацию художественного процесса, и пытались найти этому противовес. В этом было много типично позднесоветской кампанейщины и искусственности - звание «школы» спускалось сверху как награда. Но по отношению к владимирской пейзажной школе (В.Юкин, К.Бритов, В.Кокурин, Н.Мокров и др.) этого не скажешь: пейзажисты «срослись» как-то сами собой и самостоятельно – причём едва ли не первыми в своё время - нащупали некую групповую идентичность.
Дик постепенно врос во владимирскую культурную жизнь, в профессиональный цех – получал кое-какие заказы по оформительскому делу и монументалке (такими заказами – посредством комбинатов и мастерских Художественного фонда - перебивались все художники России. Арт-продукт был – и обязан был быть – типологичным; по умолчанию – речь шла о хлебе насущном – требовался определенный профессионализм, но неординарность решений не предполагалось).
Постепенно его художественные интересы сосредоточились на графике. Почему? Здесь не было рутины следования образовательной колее – Дик, как вы помните, он был прикладником ( специальность – декоративно-прикладное искусство), более конкретизировано – художником по металлу. Худфондовский опыт был универсален – здесь, в малых городах, узкой специализации не было – был бы заказ, он диктовал материал и технику.
В том, что Дик сосредоточился на графике, был какой-то другой смысл. К началу 1970-х графическое искусство в нашей стране уже десятилетие как пребывало в фазе актуальности, сравнимой разве что с эпохой серебряного века. С тем только различием, что у актуализации этой было некое внешнее идеологическое обременение. Власть стремилась использовать профессиональный подъем графики в собственных интересах. Провозглашенный тогда лозунг «Эстамп в каждый дом» при всех благих намерениях обеспечить духовный рост населения сравнительно скромным бюджетом, прежде всего, предполагал твердый идеологический и эстетический контроль. И над художником, и над потребителем искусства. При этом «обеспечить массовость» так и не удалось: гравюра в каждый дом не пошла, традиция папочного собирательства, отсылающая к серебряному веку, не возродилась. Но была актуальность другого рода, подлинная. Объективная, связанная с содержательно-ценностными моментами. Не с системой ценностей в государственно-культурно-иерархическом плане, боже упаси. В профессиональном сознании. Сегодня причины этой тогдашней фокусировки на графике уже можно отрефлексировать. Какие-то моменты были объективно историчны. Фигура сравнительно недавно ушедшего В. Фаворского была реально культовой, а рядом, в Москве и Ленинграде, еще здравствовали другие патриархи — А. Гончаров, А. Фонвизин, Д. Митрохин, В. Курдов, П. Басманов, В. Стерлигов. С сегодняшней точки зрения приходится признать: все эти художники в институциональном плане были вполне «официальными» - признанными музеями, обладающими мастерскими, окруженными преданными искусствоведами-летописцами. Их привлекательной стороной, помимо чисто творческих моментов, было невмешательство в идеологические затеи государства. Они сумели позиционировать себя в качестве неких если не олимпийцев, то патриархов, существовавших почти вне советской злобы дня. Этим они отличались от графиков (берем только эту специализацию) официальных не только институционально, но и по духу, то есть тематически конъюнктурных. Официальный заказ (скорее, ритуальный, чем действительно идеологический) осуществлялся ими, как правило, в серийной эстампной форме. Функция станкового эстампа была сугубо выставочной (по госучреждениям такого рода графика, конечно, тоже распространялась, однако оценщиком, которому госзаказ передавал приемочно-контрольные функции, в первую очередь выступала инстанция выставком. Вообще институт выставки был очень значим в советской художественной культуре: на выставке производились закупки, определялись внутрицеховые иерархии, осуществлялась идеологическая отбраковка – иногда партийные инстанции удаляли, на правах главных контролеров, пропущенную выставкомами , как инстанцией низшего, подчиненного порядка, «крамолу» и пр.). Соответственно, форма подобного сериального эстампа определялась его выставочным бытованием. Она должна была быть и кондиционной, типологичной, и активной, конкурентоспособной, узнаваемой в плане авторства. Этот момент был зафиксирован в точном профессиональном определении ( кажется, Ю.Герчука) : громогласная манежная форма. Эта форма (скорее, подход) воспринималась как конъюнктурная, говоря современным языком, коммерческая. Всё сказанное относилось и к выставочным станковым сериям, выполненным в уникальных, не граверных техниках. Маститые графики, по крайней мере в этот период, избегали открыто конъюнктурного тематизма. Зато могли позволить себе мифологию защитников высокого искусства от политически преходящего, «хранителей огня» («огонь» был вариативен — мог символизировать авангардную или, наоборот, спиритуальную традицию).
Художники среднего и молодого поколений, искали свои способы отхода от «ударного» манежного эстампа. Как правило, это был путь интимизации, снижения интонации, разработки психологических состояний. То есть политически конъюнктурной и просто благополучной графике противостояла «тихая графика» (опять же – термин Ю.Герчука). В целом эта установка была настолько человечески симпатичной, что даже официоз не брался оппонировать ей. Более того, пути в тихую графику не были закрыты и для статусных мастеров «громогласной манежной формы». Да что там – на графические выставки, в издательскую деятельность «пропускались» художники «другого искусства». В целом графика была, пожалуй, наиболее интеллигентной и продвинутой сферой художественного производства. К тому же – воспользуюсь выражением В.Высоцкого, - «общепримиряющей».
Старинный Владимир, расположенный над неторопливой Клязьмой, и поразительно насыщенные историческими достопримечательностями малые города окрест, вполне подходили для осуществления этого плана. Менее двухсот км. от Москвы,- и совсем другое течение жизни. Провинциальность в хорошем, историко-культурном значении – как сама возможность ощутить это течение: от исторических истоков сегодняшней повседневности. Пластика русской архитектуры в её уникальном взаимодействии с пространством: воплощенная способность регулировать временные потоки – обращать их вспять, запускать с опережением, замедлять, давая повод рассматривать на просвет.
Дик полюбил Владимир. Разумеется, историческая уникальность сыграла свою роль. Но город подошел художнику, видимо, прежде всего за возможность осуществить свой план укромной, сокровенной жизни (ценил, наверное, и за близость к Москве - досягаемость выставок, концертов, узкого круга друзей-единомышленников). В тихом провинциальном Владимире (тогда ещё не столь заточенном на международный туризм) была и своя, вполне достойная, среда общения. Более того, здесь культивировалась некая отдельность своей художественной жизни. К 1970-м в СССР стало модно говорить о региональных школах – похоже, даже официальные институции стали понимать удручающую централизацию и унификацию художественного процесса, и пытались найти этому противовес. В этом было много типично позднесоветской кампанейщины и искусственности - звание «школы» спускалось сверху как награда. Но по отношению к владимирской пейзажной школе (В.Юкин, К.Бритов, В.Кокурин, Н.Мокров и др.) этого не скажешь: пейзажисты «срослись» как-то сами собой и самостоятельно – причём едва ли не первыми в своё время - нащупали некую групповую идентичность.
Дик постепенно врос во владимирскую культурную жизнь, в профессиональный цех – получал кое-какие заказы по оформительскому делу и монументалке (такими заказами – посредством комбинатов и мастерских Художественного фонда - перебивались все художники России. Арт-продукт был – и обязан был быть – типологичным; по умолчанию – речь шла о хлебе насущном – требовался определенный профессионализм, но неординарность решений не предполагалось).
Постепенно его художественные интересы сосредоточились на графике. Почему? Здесь не было рутины следования образовательной колее – Дик, как вы помните, он был прикладником ( специальность – декоративно-прикладное искусство), более конкретизировано – художником по металлу. Худфондовский опыт был универсален – здесь, в малых городах, узкой специализации не было – был бы заказ, он диктовал материал и технику.
В том, что Дик сосредоточился на графике, был какой-то другой смысл. К началу 1970-х графическое искусство в нашей стране уже десятилетие как пребывало в фазе актуальности, сравнимой разве что с эпохой серебряного века. С тем только различием, что у актуализации этой было некое внешнее идеологическое обременение. Власть стремилась использовать профессиональный подъем графики в собственных интересах. Провозглашенный тогда лозунг «Эстамп в каждый дом» при всех благих намерениях обеспечить духовный рост населения сравнительно скромным бюджетом, прежде всего, предполагал твердый идеологический и эстетический контроль. И над художником, и над потребителем искусства. При этом «обеспечить массовость» так и не удалось: гравюра в каждый дом не пошла, традиция папочного собирательства, отсылающая к серебряному веку, не возродилась. Но была актуальность другого рода, подлинная. Объективная, связанная с содержательно-ценностными моментами. Не с системой ценностей в государственно-культурно-иерархическом плане, боже упаси. В профессиональном сознании. Сегодня причины этой тогдашней фокусировки на графике уже можно отрефлексировать. Какие-то моменты были объективно историчны. Фигура сравнительно недавно ушедшего В. Фаворского была реально культовой, а рядом, в Москве и Ленинграде, еще здравствовали другие патриархи — А. Гончаров, А. Фонвизин, Д. Митрохин, В. Курдов, П. Басманов, В. Стерлигов. С сегодняшней точки зрения приходится признать: все эти художники в институциональном плане были вполне «официальными» - признанными музеями, обладающими мастерскими, окруженными преданными искусствоведами-летописцами. Их привлекательной стороной, помимо чисто творческих моментов, было невмешательство в идеологические затеи государства. Они сумели позиционировать себя в качестве неких если не олимпийцев, то патриархов, существовавших почти вне советской злобы дня. Этим они отличались от графиков (берем только эту специализацию) официальных не только институционально, но и по духу, то есть тематически конъюнктурных. Официальный заказ (скорее, ритуальный, чем действительно идеологический) осуществлялся ими, как правило, в серийной эстампной форме. Функция станкового эстампа была сугубо выставочной (по госучреждениям такого рода графика, конечно, тоже распространялась, однако оценщиком, которому госзаказ передавал приемочно-контрольные функции, в первую очередь выступала инстанция выставком. Вообще институт выставки был очень значим в советской художественной культуре: на выставке производились закупки, определялись внутрицеховые иерархии, осуществлялась идеологическая отбраковка – иногда партийные инстанции удаляли, на правах главных контролеров, пропущенную выставкомами , как инстанцией низшего, подчиненного порядка, «крамолу» и пр.). Соответственно, форма подобного сериального эстампа определялась его выставочным бытованием. Она должна была быть и кондиционной, типологичной, и активной, конкурентоспособной, узнаваемой в плане авторства. Этот момент был зафиксирован в точном профессиональном определении ( кажется, Ю.Герчука) : громогласная манежная форма. Эта форма (скорее, подход) воспринималась как конъюнктурная, говоря современным языком, коммерческая. Всё сказанное относилось и к выставочным станковым сериям, выполненным в уникальных, не граверных техниках. Маститые графики, по крайней мере в этот период, избегали открыто конъюнктурного тематизма. Зато могли позволить себе мифологию защитников высокого искусства от политически преходящего, «хранителей огня» («огонь» был вариативен — мог символизировать авангардную или, наоборот, спиритуальную традицию).
Художники среднего и молодого поколений, искали свои способы отхода от «ударного» манежного эстампа. Как правило, это был путь интимизации, снижения интонации, разработки психологических состояний. То есть политически конъюнктурной и просто благополучной графике противостояла «тихая графика» (опять же – термин Ю.Герчука). В целом эта установка была настолько человечески симпатичной, что даже официоз не брался оппонировать ей. Более того, пути в тихую графику не были закрыты и для статусных мастеров «громогласной манежной формы». Да что там – на графические выставки, в издательскую деятельность «пропускались» художники «другого искусства». В целом графика была, пожалуй, наиболее интеллигентной и продвинутой сферой художественного производства. К тому же – воспользуюсь выражением В.Высоцкого, - «общепримиряющей».
В композициях владимирского графика П.Дика ( «Двое на снегу», «Студенты») с их обостренностью пространственно-временных отношений обнажена природа внутреннего человеческого диалога
“
В писаниях о графике реализовали себя лучшие тогдашние критики — Ю. Герчук, Ю. Молок, Э. Кузнецов, Г. Поспелов, Г.Ковтун, Л. Мочалов, Б. Сурис. Графики явно были самыми демократичными художниками в тогдашних творческих союзах. Самыми, говоря современным языком, - продвинутыми. Атмосфера того, что сегодня мы бы назвали графическим дискурсом, – относительно свободной и терпимой.
Естественно, вся эта совокупность позиций не могла не импонировать Дику. Но особенно близки ему были установки «тихой графики». Психологически. Биографически. Творчески.
Дик уже не был «молодым художником» (Вообще-то «молодежность» была важным фактором позднесоветской культуры : существовал молодежный истеблишмент со своими выставочными и организационными институциями и механизмами продвижения «правильной» художественной молодёжи). Не входил он и в кружки считанных графических гуру того времени. Он возник на графическом горизонте «ниоткуда», сам по себе. И довольно быстро стал «своим». Прежде всего – в силу своей настроенности на волну «тихой графики». Приведу фрагмент своей старой статьи, в которой впервые обратил внимание на Дика: не потому, что в ней были какие-то открытия, - скорее, в силу её типологичности : и на языковом уровне, и в плане представлений о «лирической содержательности» ( обиходный термин тогдашнего искусствоведческого письма): «…благодаря лирическому инструментарию появляется возможность, не теряя аналитичности, прикоснуться к сложной материи духовных переживаний современного человека, сфере его, как говорится, «личной жизни» - области, очерченной сегодня иначе, чем ещё лет десять тому назад, да и по содержанию своему существенно изменившейся. В композициях владимирского графика П.Дика ( «Двое на снегу», «Студенты») с их обостренностью пространственно-временных отношений обнажена природа внутреннего человеческого диалога».******* Да, скажем прямо, никаких откровений: автор педалирует «лирическое», цепляясь за него как за щепку в море бодрого советского тематизма. Абсолютно типологичный приём 1980-х : негромкость, неспешность, достоинство и пр. как оценочные категории, всё, что угодно, лишь бы не лобовые тематические ходы! Но и художник в ту пору ещё только на подступах к тому Дику, о котором сегодня интересно писать. Он тоже достаточно типологичен. В глазах «творческой общественности» Дик являл собой образец опытного, достаточно успешного провинциального графика, которого с удовольствием (не всё же Москва да Ленинград! ) брали на Республиканские и Всесоюзные графические выставки. К тому же он «технарь», знаток графической печати: занимается редкой техникой монотипии («Звонарь»), и, конечно, литографией.
Л. Вострецова считает этапной работой именно монотипию 1978 г. «Звонарь». Прежде всего, в силу её ассоциативности (сам выбор сюжета высвобождал разнообразные культурные коды – от «Рублева» А.Тарковского до Д.Донна). Что ж, зритель того времени был благодарным толкователем, охотником до распутывания ассоциативных нитей. Интересно наблюдение автора над колоритом, его образной подоплекой: «Исполненная умброй, она (монотипия – А.Б.) она хранит опыт работы художника с металлом, напоминая так популярные в то время выколотки по меди».********
Ну а мне первой работой, в которой «проглядывает» будущий Дик, представляется литография 1979 г. «У порога». Это вещь - биографически «говорящая». …Мальчик сидит на пороге, открытая дверь высветлена светом извне. Пространство по эту сторону порога дано в изобразительном плане корпусно, с повышенной тактильностью, идущей от зерни литографского камня. Перед мальчиком – за порогом – лежит мир внешний, горний – данный белым пространством нетронутого листа. Он отбрасывал на голову мальчика некий полу-нимб. Но в глубине пространства снова возникает массив черного – лес. Он знаменует – изобразительно – возврат к реальности, к реальному пейзажу. Символически он означает невозможность выхода, побега. Эта литография, при всём своем изобразительном лаконизме, была потаённо нарративна. Вот только «разговорить» её никто не хотел. Не пришло время.
Начиная с 1980-х, Дик всё чаще обращается к пастели. У него явный дар острой изобразительной характеристики. В том числе – портретной. Пример – «Юкин с Тимкой» (1983): вещь очень тонкой психологической организации, при высоком уровне обобщения. Лидера владимирской школы пейзажа изображали многие: в скульптуре, например, - М.Белов, в графике – А.Амирханов. Характерная внешность – бородатый крепыш в рабочем фартуке, внимательные глаза под кустистыми бровями, - располагала к теме энергичности, напора, творческой и жизненной хватки. Дик увидел другое. Собственно портретное, что называется, внешний облик – лицо, узнаваемая постановка головы, фигура, - дано в предельной, я бы сказал, гротесковой, если бы художник не избегал любого внешнего обострения, – степени обобщения. Далее в работе на образ включаются другие выразительные средства. Два черных силуэта : пастель по свойствам её фактурной субстанциональности смягчает резкость, «вырезанность» силуэтной линии, отсюда – не столько линеарные отношения, но и отношения масс. Обобщенная – в сближенных тонах, с характерной пастельной вибрацией светосилы, среда. Отношения человека и собаки, - это считывается сразу. Но это, скорее, обозначение возможного, но так и не получившего развития жанрового начала. Художник сознательно не педалирует его, как бы опасаясь неизбежных сентиментальных коннотаций. Два силуэта, два живописных пятна – это, скорее, некий знак диалогичности. Модель развернута к зрителю: главный диалог, на который она рассчитывает, - с ним. Традиционная портретная характеристика требует некой авторской разработки : художник не только передает сходство, он «лепит» характер, раскрывает внутренние сущности. В «Юкине с Тимкой» нет законченности характеристики, лепки, формовки. Портретное дано в трансляции некого психологического состояния. Зритель призван проникнуться им, «до-материализовать» в сознании портретный мессадж . Мне это «портретное» раскрывается как образ медитации, возможно, одиночества, безусловно – жажды понимания. У другого зрителя механизмы считывания портретного сработают по-другому. В свое время Г.Голенький удачно, хотя и несколько патетично (что тоже само по себе репрезентативно - стиль 80-х!) сформулировал кредо Дика: «У графика есть выстраданная тема, совпадающая с генеральной темой русской культуры — взыскательное милосердие к людям, помнящее об их высоком назначении, тоскующее по идеалу. Он касается проблем неприкаянности, одиночества. На дефицит этих исходных ценностей он реагирует с печалью и горечью. Его персонажи словно вслушиваются в отдаленно звучащую мелодию надежды, которая помогает им одолеть страдание»*********
Естественно, вся эта совокупность позиций не могла не импонировать Дику. Но особенно близки ему были установки «тихой графики». Психологически. Биографически. Творчески.
Дик уже не был «молодым художником» (Вообще-то «молодежность» была важным фактором позднесоветской культуры : существовал молодежный истеблишмент со своими выставочными и организационными институциями и механизмами продвижения «правильной» художественной молодёжи). Не входил он и в кружки считанных графических гуру того времени. Он возник на графическом горизонте «ниоткуда», сам по себе. И довольно быстро стал «своим». Прежде всего – в силу своей настроенности на волну «тихой графики». Приведу фрагмент своей старой статьи, в которой впервые обратил внимание на Дика: не потому, что в ней были какие-то открытия, - скорее, в силу её типологичности : и на языковом уровне, и в плане представлений о «лирической содержательности» ( обиходный термин тогдашнего искусствоведческого письма): «…благодаря лирическому инструментарию появляется возможность, не теряя аналитичности, прикоснуться к сложной материи духовных переживаний современного человека, сфере его, как говорится, «личной жизни» - области, очерченной сегодня иначе, чем ещё лет десять тому назад, да и по содержанию своему существенно изменившейся. В композициях владимирского графика П.Дика ( «Двое на снегу», «Студенты») с их обостренностью пространственно-временных отношений обнажена природа внутреннего человеческого диалога».******* Да, скажем прямо, никаких откровений: автор педалирует «лирическое», цепляясь за него как за щепку в море бодрого советского тематизма. Абсолютно типологичный приём 1980-х : негромкость, неспешность, достоинство и пр. как оценочные категории, всё, что угодно, лишь бы не лобовые тематические ходы! Но и художник в ту пору ещё только на подступах к тому Дику, о котором сегодня интересно писать. Он тоже достаточно типологичен. В глазах «творческой общественности» Дик являл собой образец опытного, достаточно успешного провинциального графика, которого с удовольствием (не всё же Москва да Ленинград! ) брали на Республиканские и Всесоюзные графические выставки. К тому же он «технарь», знаток графической печати: занимается редкой техникой монотипии («Звонарь»), и, конечно, литографией.
Л. Вострецова считает этапной работой именно монотипию 1978 г. «Звонарь». Прежде всего, в силу её ассоциативности (сам выбор сюжета высвобождал разнообразные культурные коды – от «Рублева» А.Тарковского до Д.Донна). Что ж, зритель того времени был благодарным толкователем, охотником до распутывания ассоциативных нитей. Интересно наблюдение автора над колоритом, его образной подоплекой: «Исполненная умброй, она (монотипия – А.Б.) она хранит опыт работы художника с металлом, напоминая так популярные в то время выколотки по меди».********
Ну а мне первой работой, в которой «проглядывает» будущий Дик, представляется литография 1979 г. «У порога». Это вещь - биографически «говорящая». …Мальчик сидит на пороге, открытая дверь высветлена светом извне. Пространство по эту сторону порога дано в изобразительном плане корпусно, с повышенной тактильностью, идущей от зерни литографского камня. Перед мальчиком – за порогом – лежит мир внешний, горний – данный белым пространством нетронутого листа. Он отбрасывал на голову мальчика некий полу-нимб. Но в глубине пространства снова возникает массив черного – лес. Он знаменует – изобразительно – возврат к реальности, к реальному пейзажу. Символически он означает невозможность выхода, побега. Эта литография, при всём своем изобразительном лаконизме, была потаённо нарративна. Вот только «разговорить» её никто не хотел. Не пришло время.
Начиная с 1980-х, Дик всё чаще обращается к пастели. У него явный дар острой изобразительной характеристики. В том числе – портретной. Пример – «Юкин с Тимкой» (1983): вещь очень тонкой психологической организации, при высоком уровне обобщения. Лидера владимирской школы пейзажа изображали многие: в скульптуре, например, - М.Белов, в графике – А.Амирханов. Характерная внешность – бородатый крепыш в рабочем фартуке, внимательные глаза под кустистыми бровями, - располагала к теме энергичности, напора, творческой и жизненной хватки. Дик увидел другое. Собственно портретное, что называется, внешний облик – лицо, узнаваемая постановка головы, фигура, - дано в предельной, я бы сказал, гротесковой, если бы художник не избегал любого внешнего обострения, – степени обобщения. Далее в работе на образ включаются другие выразительные средства. Два черных силуэта : пастель по свойствам её фактурной субстанциональности смягчает резкость, «вырезанность» силуэтной линии, отсюда – не столько линеарные отношения, но и отношения масс. Обобщенная – в сближенных тонах, с характерной пастельной вибрацией светосилы, среда. Отношения человека и собаки, - это считывается сразу. Но это, скорее, обозначение возможного, но так и не получившего развития жанрового начала. Художник сознательно не педалирует его, как бы опасаясь неизбежных сентиментальных коннотаций. Два силуэта, два живописных пятна – это, скорее, некий знак диалогичности. Модель развернута к зрителю: главный диалог, на который она рассчитывает, - с ним. Традиционная портретная характеристика требует некой авторской разработки : художник не только передает сходство, он «лепит» характер, раскрывает внутренние сущности. В «Юкине с Тимкой» нет законченности характеристики, лепки, формовки. Портретное дано в трансляции некого психологического состояния. Зритель призван проникнуться им, «до-материализовать» в сознании портретный мессадж . Мне это «портретное» раскрывается как образ медитации, возможно, одиночества, безусловно – жажды понимания. У другого зрителя механизмы считывания портретного сработают по-другому. В свое время Г.Голенький удачно, хотя и несколько патетично (что тоже само по себе репрезентативно - стиль 80-х!) сформулировал кредо Дика: «У графика есть выстраданная тема, совпадающая с генеральной темой русской культуры — взыскательное милосердие к людям, помнящее об их высоком назначении, тоскующее по идеалу. Он касается проблем неприкаянности, одиночества. На дефицит этих исходных ценностей он реагирует с печалью и горечью. Его персонажи словно вслушиваются в отдаленно звучащую мелодию надежды, которая помогает им одолеть страдание»*********

«Виолончелист», 1998
“
Что ж, похоже, «Юкин с Тимкой» - у истоков этой темы. Вообще-то Дик сравнительно редко обращается к портрету. Возможно, он не очень-то нуждается в «посреднике» (портретируемом), чтобы транслировать нужные ему эмоциональные состояния. Портрет же – всегда некая персонификация мессаджа, его объективизация (необходимость отвлекаться на то, чтобы запечатлеть индивидуальность облика, характера и пр.). Исключение – образы музыкантов. Дик с самого начала, с 1981 года, был завсегдатаем декабрьских вечеров в ГМИИ им.А.С.Пушкина, инициированных И.Антоновой и С.Рихтером. Вообще любил музыку – настолько, что произведений на музыкальную тему (серия «Декабрьские вечера», отдельные портреты, натюрморты с музыкальными инструментами) набралось на специальную выставку ( Кира Лимонова провела её в 2007 г. в «Палатах» Владимиро-Суздальского музея-заповедника). Я бы выделил в этом корпусе произведений две вещи – «Играет Святослав Рихтер» (1984) и «Виолончелист» (1997). Рихтер изображен за роялем, спиной к зрителю. Однако его фигура, поза, мощный затылок, сама посадка головы, манера ставить пальцы на клавиатуру схвачены с абсолютной портретностью. Но план узнаваемости – только основа. Важнее – план непознаваемости : то есть индивидуальное соприкосновение с личностью и делом жизни портретируемого. В этом портрете так же, как и в «Юкине с Темкой», личность не «отлита в бронзу» своей масштабности и превосходства. Портретный мессадж процессуален, некая длительность заложена в него как данность. Потому что у Дика портретен прежде всего сам процесс звуко- и смыслоизвлечения. Всё – и спина, и затылок, и откинувшаяся назад фигура – подчинено этой идее: музыка носит авторский характер, и это не поддаётся визуализации, но акустика, концертное звукоизвлечение персонифицировано. И в этом смысле - портретно. В «Виолончелисте» музыкант обращен к зрителю лицом. И, хотя, по лепке головы, по её повороту, вообще по позе он вполне узнаваем, художник даёт лицо обобщенным пятном, подобно лицам в крестьянском цикле Малевича. В самом индивидуальном, личностном, являющемся традиционно – зеркалом души, - подобное, предельное, обобщение ? ( Уместно вспомнить термин иконописи: лицевое письмо до движков и теневых приплесков - плавь). Почему – так, плавью? Думаю, никаких специальных отсылок к Малевичу здесь нет. «Плавь» здесь, в ещё большей степени, чем постановка – спиной - фигуры в «Рихтере», является вполне осознанным приёмом. Звучание персонифицировано музыкантом, это понятно, при желании идентифицировать исполнителя нетрудно. Но художник хочет показать ситуацию полного погружения в музыку, абсолютного ухода в неё, когда ничто внешнее не отвлекает, даже лицо музыканта, его мимика. В визуальном симбиозе исполнителя и звучания акцент даётся - на последнем. В других вещах многолетней музыкальной серии ( «Музыка», «Трио», «Музыканты», «Репетиция», «Дуэт») традиционно-портретное, личностное вообще не проявлено. Если в «Рихтере» и «Виолончелисте» даётся некий синтетический «портрет» исполнителя и звукоизвлечения как такового, то в этих работах портретное вообще снято, занятия музыкой показываются в жанровом ключе или в контексте опыта частного человеческого общения («Двое». «Двое. На концерте»). Всё это – вполне в контексте общего вектора развития искусства Дика от 1980-х – к 90-м. «Мир Петра Дика обобщен и упрощен с решительностью, способной поразить даже современного поднаторевшего зрителя, - много позже напишет Э.Кузнецов. - Он освобожден от всяких жизненных подробностей и характеристик, от всякой конкретности, позволяющей судить о том, где, когда и что именно происходит. Его персонажи лишены индивидуальности – не только реальных характеров, но даже и внешности. Это люди вообще: Мужчина, Женщина, Ребенок, иногда – Старый человек».**********
Тем большего внимания заслуживают «портретные» образы художника.
Диалектика наблюденности и обобщения у Дика – вопрос, который стоит рассмотреть специально. Да, у художника потребность заострять изобразительную характеристику, вообще материал реальности ему интересен во всем своем многообразии. Он воспринимает его непосредственно, вне системы опосредованностей, тем паче – готовых формул. В таких работах, как «Дворник», «Сумерки», «На прогулке», «На скамье», «Больная и доктор» момент наблюденности так развит, что впору говорить о своеобразном диковском жанризме.
А как же – по Э.Кузнецову - освобожденность от всяких жизненных подробностей, от любой конкретности? Думаю, противоречия здесь нет. Острота характеристики у Дика не противостоит сформулированному художником постулату «вычитания случайностей»: пластическая характерность, «ухваченность» поз и жестов вполне может обретать модус закономерности и даже формульности. Впрочем, даже когда дело дойдёт до предельной обобщенности, эта зрительная цепкость скажет своё слово: натурный план, план наблюденности, проявит себя на «вторичном уровне», – он как бы забрезжит «сквозь» формульность. Так проявляется весьма органичный для художника приём скрытой нарративности.
А пока Дик слегка приглушает характерность – ему нужно другое: « большая форма» как выражение большой идеи.
Мне кажется, в 1980-е годы определяются три пластические темы мироощущенческого плана. О первой – дверном проеме, вратах, вообще проходе в разных его версиях – уже говорилось выше. Вторая тема связана с композиционными поисками собственного диковского горизонта. Он использует горизонт не столько ради выявления масштабов (Хотя и этим приемом – планкой высокого и низкого горизонтов – как средством выражения эмоциональных состояний он владеет мастерски : «Одинокая фигура», «Праздник» и др. Кстати, здесь прослеживается определенная близость с «алтайскими» циклами 1930-х гг. уже упоминавшегося П. Басманова: вытянутый горизонт, который пересекают вертикали человеческих фигур. Пред-знание: у каждой фигуры есть свое ощущение горизонта. Отсюда – щемящее чувство человеческого присутствия, окрашивающее пространство). Горизонт играет и самостоятельную образную роль. Это как бы стержень сжатого, концентрированного пространства. В работе «Лампа» этот момент тематизирован: вытянутая по горизонтали пастель композиционно держится на планке горизонта, который в буквальном смысле «высвечен» посредством потолочной лампы. Таких «спрессованных» в пространственном плане вокруг горизонта вещей у Дика немало, причем горизонт - не всегда видимая линия соприкосновения тверди и неба. Его роль может играть даже вытянутая и чуть стилизованная в своей пластической формульности лежащая женская фигура («Лежащая»). А может - горизонтальная тень («На берегу»), полоска фортепьянных клавиш («За игрой»). Горизонт может двоиться и троиться в отражениях («Отражение») или в предметных аналогах – силуэте лодки, очертании крыши («Отражение II», «Лунная ночь»). Он вообще может не «читаться», быть невидимым («Покинутый дом»). Однако, визуально или умозрительно, он присутствует в качестве оси некого сжатого, концентрированного пространства, «выжимки пространства» (по аналогии с ахматовским – «выжимка бессонниц»).
В уже упомянутой «Лампе» возникает и третья пластическая тема, чрезвычайно важная для Дика, – купол. Как правило, купольные композиции у него «сюжетно» завязаны на натурной визуальной теме ( зонты, плафоны и пр.). Отдельные фигуры с зонтами, целые группы с зонтиками – этот предметный мотив проходит через всё зрелое творчество Дика. Связана ли эта пластическая тема с разработанной в 1960-х гг. ленинградцем Владимиром Стерлиговым «чашно-купольной системой» в живописи? Стерлигов парадоксально сочетал идущие от Малевича интенции отрефлексировать новый «прибавочный элемент в живописи» – сферическую кривую или «прямо-кривую», и поиски идеального, проникнутого спиритуальным, пространства («Чашно-купольное бытие»). Дик, сблизившийся в 1980-е с близкими ему по умонастроениям и культурным интересам ленинградцами, наверняка знал стерлиговцев. Эта группа уверенно прочерчивала самостоятельную творческую и поведенческую линию «вежливой оппозиции». Естественно, в первую очередь - официозу. Но и - андеграунду ( во всяком случае, его политизированным или концептуализированным направлениям). Всё же, мне представляется, и формальная, и спиритуальная составляющие стерлиговской чашно-купольной системы не влияли непосредственно на творчество Дика. Хотя бы в силу своей эксплицитной опосредованности, формульности. Купольные композиции Дика, как всегда у него, выношены «биографически». За ними – своя, очень личная, эмоционально-бытийная тема. Возможно, неотрефлексированная специально, но в своей настоятельности далеко не случайная. Это тема – поиск защищённости, укрытия. Разумеется, не только от дождя.
Выше уже говорилось о содержательности большого пластического мотива, которая всегда у него «стоит» за формообразованием. У этой содержательности - несколько уровней. Начну с эмоционального, мироощущенческого.
Практически все, пишущие о Дике, отмечают «построенность» его вещей, художник и сам писал о «вычитании случайностей» как о своем кредо. Это давало повод вести истоки его творчества чуть ли не от супрематизма. Мне кажется, - если уж говорить об истоках, - они лежат в близких, но принципиально иных материях. Начиная с «крестьянского» цикла К.Малевича универсализм, проектность прогностического миропостроения подвергаются всё большему давлению «наличной реальности», разочаровывающей и драматичной. Особенно ощутимо это в графике 1930-х гг. А.Лепорской и особенно – Н.Суэтина, позже – П.Кондратьева и уже не связанных с этой школой Б. Ермолаева, А.Якобсон и др. Изначальная формульность преодолевается пластичностью и эмоциональностью рисования : в идеальный мир вносятся коррективы драматизма. Дику жизне- проектирующие амбиции никогда не были свойственны, культура советского авангарда воспринималась им, как мне представляется, именно как культура формообразования. Он учился строить форму, не более того. И эмоциональная нагрузка на эту форму была у Дика своя, не имеющая ничего общего с конфликтом «мирового проекта» и «наличной реальности», характерным для творчества малевичевских учеников в поздние тридцатые.
Драматизм мироощущения в работах Дика биографичен. Повторим, он постоянно разрабатывает три типа композиционности. Первый - мотивы дверных проемов, подземных переходов, горловины сосудов, вообще всякие отверстия и дыры. Второй – уже описанные метаморфозы горизонта. Третий тип – купол, «закрепленный» в соответствующем предметном ряде – зонтики, железный абажур лампы и др. (Разумеется, есть и другие композиционные архетипы – в основном, идущие от древнерусской иконографии – мотивы предстояния, шествия и пр.). За каждым типом композиционности стоит личностный опыт художника: неудовлетворенность своим положением в мире, неуспокоенность, экзистенциальная тревога. Проем – как невозможность выхода из границ своей экзистенции. Вход, подразумевающий неизбежность возвращения, тщету блужданий (удивительная работа «Ночь. Остановка» мощно репрезентирует это мироощущенческое состояние одиночества и безысходности). Горизонт во всех своих версиях знаменует напряженность, грозовую сгущенность или суженность, нестабильность пространства: горизонт уподоблен сжатой пружине, готовой распрямиться, лезвию со всеми коннотациями опасности и пр. Наконец – купол: инстинктивный поиск защиты, отгораживания, сбережения собственного пространства.
Тем большего внимания заслуживают «портретные» образы художника.
Диалектика наблюденности и обобщения у Дика – вопрос, который стоит рассмотреть специально. Да, у художника потребность заострять изобразительную характеристику, вообще материал реальности ему интересен во всем своем многообразии. Он воспринимает его непосредственно, вне системы опосредованностей, тем паче – готовых формул. В таких работах, как «Дворник», «Сумерки», «На прогулке», «На скамье», «Больная и доктор» момент наблюденности так развит, что впору говорить о своеобразном диковском жанризме.
А как же – по Э.Кузнецову - освобожденность от всяких жизненных подробностей, от любой конкретности? Думаю, противоречия здесь нет. Острота характеристики у Дика не противостоит сформулированному художником постулату «вычитания случайностей»: пластическая характерность, «ухваченность» поз и жестов вполне может обретать модус закономерности и даже формульности. Впрочем, даже когда дело дойдёт до предельной обобщенности, эта зрительная цепкость скажет своё слово: натурный план, план наблюденности, проявит себя на «вторичном уровне», – он как бы забрезжит «сквозь» формульность. Так проявляется весьма органичный для художника приём скрытой нарративности.
А пока Дик слегка приглушает характерность – ему нужно другое: « большая форма» как выражение большой идеи.
Мне кажется, в 1980-е годы определяются три пластические темы мироощущенческого плана. О первой – дверном проеме, вратах, вообще проходе в разных его версиях – уже говорилось выше. Вторая тема связана с композиционными поисками собственного диковского горизонта. Он использует горизонт не столько ради выявления масштабов (Хотя и этим приемом – планкой высокого и низкого горизонтов – как средством выражения эмоциональных состояний он владеет мастерски : «Одинокая фигура», «Праздник» и др. Кстати, здесь прослеживается определенная близость с «алтайскими» циклами 1930-х гг. уже упоминавшегося П. Басманова: вытянутый горизонт, который пересекают вертикали человеческих фигур. Пред-знание: у каждой фигуры есть свое ощущение горизонта. Отсюда – щемящее чувство человеческого присутствия, окрашивающее пространство). Горизонт играет и самостоятельную образную роль. Это как бы стержень сжатого, концентрированного пространства. В работе «Лампа» этот момент тематизирован: вытянутая по горизонтали пастель композиционно держится на планке горизонта, который в буквальном смысле «высвечен» посредством потолочной лампы. Таких «спрессованных» в пространственном плане вокруг горизонта вещей у Дика немало, причем горизонт - не всегда видимая линия соприкосновения тверди и неба. Его роль может играть даже вытянутая и чуть стилизованная в своей пластической формульности лежащая женская фигура («Лежащая»). А может - горизонтальная тень («На берегу»), полоска фортепьянных клавиш («За игрой»). Горизонт может двоиться и троиться в отражениях («Отражение») или в предметных аналогах – силуэте лодки, очертании крыши («Отражение II», «Лунная ночь»). Он вообще может не «читаться», быть невидимым («Покинутый дом»). Однако, визуально или умозрительно, он присутствует в качестве оси некого сжатого, концентрированного пространства, «выжимки пространства» (по аналогии с ахматовским – «выжимка бессонниц»).
В уже упомянутой «Лампе» возникает и третья пластическая тема, чрезвычайно важная для Дика, – купол. Как правило, купольные композиции у него «сюжетно» завязаны на натурной визуальной теме ( зонты, плафоны и пр.). Отдельные фигуры с зонтами, целые группы с зонтиками – этот предметный мотив проходит через всё зрелое творчество Дика. Связана ли эта пластическая тема с разработанной в 1960-х гг. ленинградцем Владимиром Стерлиговым «чашно-купольной системой» в живописи? Стерлигов парадоксально сочетал идущие от Малевича интенции отрефлексировать новый «прибавочный элемент в живописи» – сферическую кривую или «прямо-кривую», и поиски идеального, проникнутого спиритуальным, пространства («Чашно-купольное бытие»). Дик, сблизившийся в 1980-е с близкими ему по умонастроениям и культурным интересам ленинградцами, наверняка знал стерлиговцев. Эта группа уверенно прочерчивала самостоятельную творческую и поведенческую линию «вежливой оппозиции». Естественно, в первую очередь - официозу. Но и - андеграунду ( во всяком случае, его политизированным или концептуализированным направлениям). Всё же, мне представляется, и формальная, и спиритуальная составляющие стерлиговской чашно-купольной системы не влияли непосредственно на творчество Дика. Хотя бы в силу своей эксплицитной опосредованности, формульности. Купольные композиции Дика, как всегда у него, выношены «биографически». За ними – своя, очень личная, эмоционально-бытийная тема. Возможно, неотрефлексированная специально, но в своей настоятельности далеко не случайная. Это тема – поиск защищённости, укрытия. Разумеется, не только от дождя.
Выше уже говорилось о содержательности большого пластического мотива, которая всегда у него «стоит» за формообразованием. У этой содержательности - несколько уровней. Начну с эмоционального, мироощущенческого.
Практически все, пишущие о Дике, отмечают «построенность» его вещей, художник и сам писал о «вычитании случайностей» как о своем кредо. Это давало повод вести истоки его творчества чуть ли не от супрематизма. Мне кажется, - если уж говорить об истоках, - они лежат в близких, но принципиально иных материях. Начиная с «крестьянского» цикла К.Малевича универсализм, проектность прогностического миропостроения подвергаются всё большему давлению «наличной реальности», разочаровывающей и драматичной. Особенно ощутимо это в графике 1930-х гг. А.Лепорской и особенно – Н.Суэтина, позже – П.Кондратьева и уже не связанных с этой школой Б. Ермолаева, А.Якобсон и др. Изначальная формульность преодолевается пластичностью и эмоциональностью рисования : в идеальный мир вносятся коррективы драматизма. Дику жизне- проектирующие амбиции никогда не были свойственны, культура советского авангарда воспринималась им, как мне представляется, именно как культура формообразования. Он учился строить форму, не более того. И эмоциональная нагрузка на эту форму была у Дика своя, не имеющая ничего общего с конфликтом «мирового проекта» и «наличной реальности», характерным для творчества малевичевских учеников в поздние тридцатые.
Драматизм мироощущения в работах Дика биографичен. Повторим, он постоянно разрабатывает три типа композиционности. Первый - мотивы дверных проемов, подземных переходов, горловины сосудов, вообще всякие отверстия и дыры. Второй – уже описанные метаморфозы горизонта. Третий тип – купол, «закрепленный» в соответствующем предметном ряде – зонтики, железный абажур лампы и др. (Разумеется, есть и другие композиционные архетипы – в основном, идущие от древнерусской иконографии – мотивы предстояния, шествия и пр.). За каждым типом композиционности стоит личностный опыт художника: неудовлетворенность своим положением в мире, неуспокоенность, экзистенциальная тревога. Проем – как невозможность выхода из границ своей экзистенции. Вход, подразумевающий неизбежность возвращения, тщету блужданий (удивительная работа «Ночь. Остановка» мощно репрезентирует это мироощущенческое состояние одиночества и безысходности). Горизонт во всех своих версиях знаменует напряженность, грозовую сгущенность или суженность, нестабильность пространства: горизонт уподоблен сжатой пружине, готовой распрямиться, лезвию со всеми коннотациями опасности и пр. Наконец – купол: инстинктивный поиск защиты, отгораживания, сбережения собственного пространства.
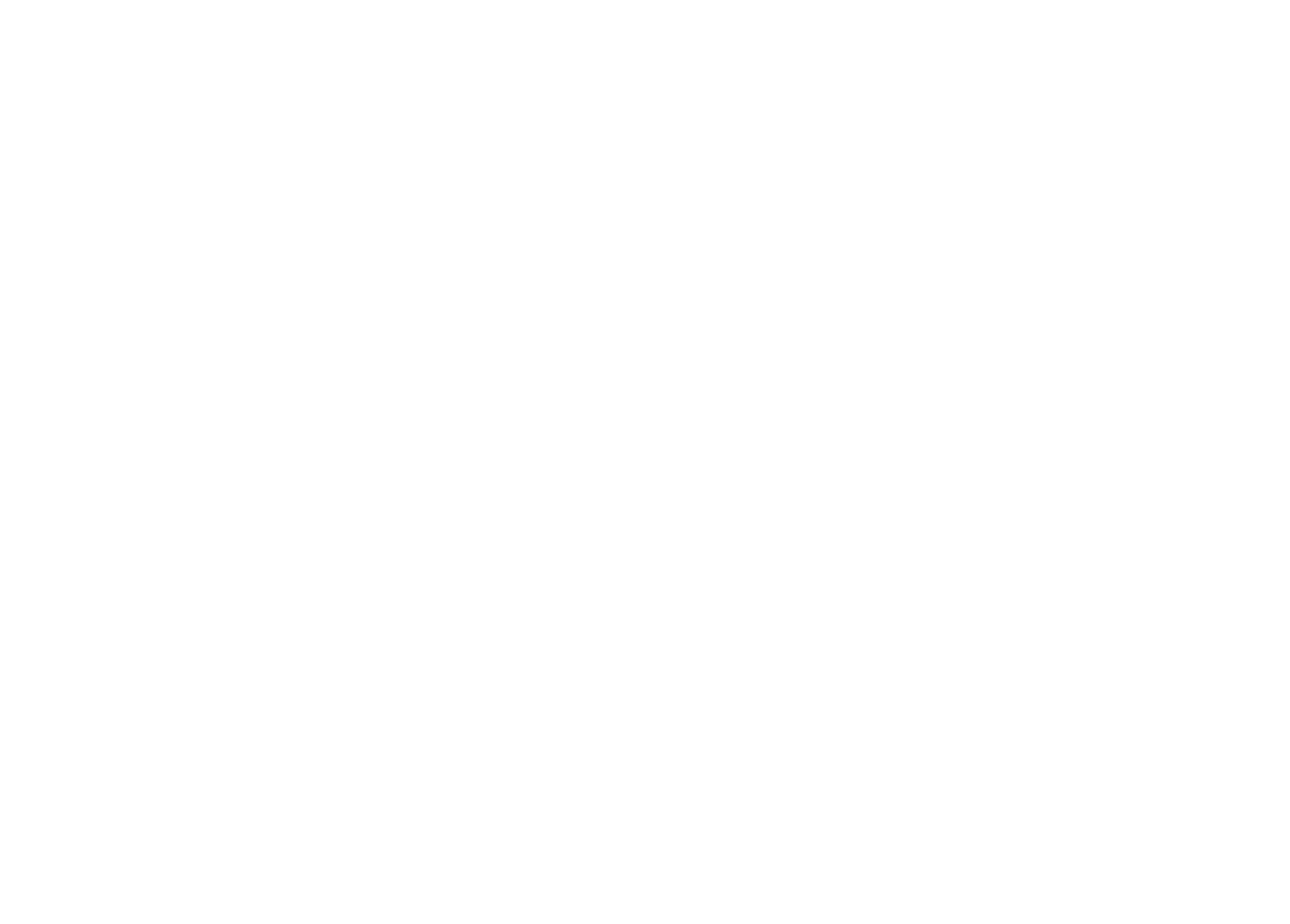
«Прогулка»
“
Или вот возьмем – связанный с темой горизонта - мотив шествия. Дик постоянно изображает группы людей в неком коллективном движении («Идущие», «Прогулка с учителем», «На праздник», «Переход», «Прогулка», «Шествие»), длящемся или остановленном. В конце 1920-х А.Бакушинский пишет работу «Формальное разрешение мотива «шествия» у Серова».*********** Это исследование - и по сей день поучительный, методологически интересный симбиоз иконографического метода, психологии восприятия и уже совершенно советской идеологии тематизма. Рассматривая этот древнейший мотив, он выделает три фазы создания образа. Первая – жизненное впечатление, которое даёт сюжет, «прорастающий» темой-мотивом. «Вторая фаза характеризуется уходом ритмического впечатления-образа внутрь, в глубины подсознательного, внутреннее, такое же ритмическое его переживание, превращение впечатления в переживание-образ» («возведение индивидуального в категорию общего»). Третья фаза – материализация образа-идеи. Бакушинский употребляет термин «сюжетно-переферическая форма», то есть реализация, которая тоже может быть связана с конкретными впечатлениями. Но «под ней» «живут формы внутренние, более устойчивые и связанные с с внутренним образом-идеей. «Таким воздействием образа-идеи объясняется подсознательное повторение отдельных элементов формы и основного построения в первично-ритмическом выражении, вне зависимости от изобразительно сюжетной формы».
Бакушинский строит свои расчёты на трех серовских вещах – «Похоронах Баумана», «Петре» и «Навзикае». Они – затем и выбраны – абсолютно несхожи сюжетно-тематически ( по терминологии автора- сюжетно-переферически). Но от произведения к произведению прочерчивается «путь от импрессионистически-натуралистической концепции формы к характерности и обобщенности формы символической,от станковости к монументальности, от пространственности к объемности, от ослабленности к и сложности цвета к его силе и простоте, от ритмической неорганизованности и дробности к большим и простым ритмам, от расщепленной двойственности к единству принципа формального построения». Я не приводил бы столь развернутого и дидактичного толкования мотива, данного Бакушинским, если бы ход его рассуждений не помогал проникнуть в существо «шествий» Дика. У них есть первично-сюжетное (периферическое, по Бакушинскому) обоснование: прогулка, сбор на некое праздничное мероприятие, экскурсия детей с учительницей, то есть нечто наблюденное, фиксирующее натурный импульс. Отсюда - первичное живописное впечатление (отличный термин Бакушинского – живописная «тремолирующая» оболочка). Далее – путь обобщения. В «шествиях» Дика большую роль играет горизонт – как некая духовная направляющая. И композиционные сдвиги по отношению к нему имеют определенные смыслы – отклонение, отход, и сила притяжения к центральной горизонтали. Драматическое сужение пространства и вольное развитие его по вертикали. ( И всё это – заметим – в далеких от стенописи, достаточно камерных форматах). Что стоит за этим? Путь монументализации, нарастающей символизации, налагающей «на плечи» изначально житейской ситуации какие-то библейские эпические нагрузки ( сороколетнее вождение Моисеем своего народа по пустыне, крестный ход, паломничество и пр.)
Бакушинский строит свои расчёты на трех серовских вещах – «Похоронах Баумана», «Петре» и «Навзикае». Они – затем и выбраны – абсолютно несхожи сюжетно-тематически ( по терминологии автора- сюжетно-переферически). Но от произведения к произведению прочерчивается «путь от импрессионистически-натуралистической концепции формы к характерности и обобщенности формы символической,от станковости к монументальности, от пространственности к объемности, от ослабленности к и сложности цвета к его силе и простоте, от ритмической неорганизованности и дробности к большим и простым ритмам, от расщепленной двойственности к единству принципа формального построения». Я не приводил бы столь развернутого и дидактичного толкования мотива, данного Бакушинским, если бы ход его рассуждений не помогал проникнуть в существо «шествий» Дика. У них есть первично-сюжетное (периферическое, по Бакушинскому) обоснование: прогулка, сбор на некое праздничное мероприятие, экскурсия детей с учительницей, то есть нечто наблюденное, фиксирующее натурный импульс. Отсюда - первичное живописное впечатление (отличный термин Бакушинского – живописная «тремолирующая» оболочка). Далее – путь обобщения. В «шествиях» Дика большую роль играет горизонт – как некая духовная направляющая. И композиционные сдвиги по отношению к нему имеют определенные смыслы – отклонение, отход, и сила притяжения к центральной горизонтали. Драматическое сужение пространства и вольное развитие его по вертикали. ( И всё это – заметим – в далеких от стенописи, достаточно камерных форматах). Что стоит за этим? Путь монументализации, нарастающей символизации, налагающей «на плечи» изначально житейской ситуации какие-то библейские эпические нагрузки ( сороколетнее вождение Моисеем своего народа по пустыне, крестный ход, паломничество и пр.)
Мне думается, именно мотив шествий, как распрямившаяся пружина, «вынес» творчество Дика в девяностые, наиболее плодотворные для него годы
“
Мне думается, именно мотив шествий, как распрямившаяся пружина, «вынес» творчество Дика в девяностые, наиболее плодотворные для него годы. Выставки в Третьяковской галерее и Русском музее, в Лондоне, Эрлангене, Больцано, начало многолетнего выставочного тура по музеям России. Дик как бы спешит поделиться, раскрыться, найти единомышленников…
Похоже, мотив шествий (в связи с затронутым выше мотивом горизонта в его духовных коннотациях) знаменовал определенные изменения в мирочувствовании художника. Разумеется, мироощущение (в прямом, не идеологизированном смысле: не система воззрений на мир, но мир реакций на реальность) Дика сохраняло элементы драматизма и травматические рецидивы. Но оно далеко не исчерпывается этими параметрами. «Шествия» - в прямом смысле - ведут к другим, возможно, пока ещё только брезжущим, горизонтам стабильности и духовной ясности. «Простим угрюмство – разве это // Сокрытый двигатель его?». Эта надежда на лучшее, эта духовная просветленность – наверное, самая симпатичная сторона творческого мира зрелого Дика.
Мироощущенческие установки художника не остаются на уровне деклараций, как всегда у Дика, они реализуются с предельной живописно-пластической отдачей. Да, теперь время вести разговор о фактурно-живописных исканиях художника.
К середине 1980-х Дик начинает работать преимущественно на наждачной бумаге. Такой выбор не был случайным или экстравагантным: путём долгого отбора художник «вышел» на технику ( материал), наиболее отвечающий его интенциям. Пастель и уголь плотно и вязко «садились» на наждачную поверхность. Проявлялась своего рода зернь (как на литографском камне, но только собственной тактильной природы), цвет не забивал все поры поверхности: и цвет, и его носитель, основа, - «дышали», дрожали, вибрировали ( Снова вспомню острый, ныне забытый авторский термин Бакушинского : тремолирующая живописная оболочка).
Но важнее было другое. Наждак, его скребущая фактура, не только, так сказать, технически, но и метафорически являет собой образ шероховатости, снятия всего внешнего, наносного. Дик вспоминал об «обнаженности» своего мировоспрития на определенном этапе. Царапающая фактура наждака, конечно, апеллировала к каким-то аспектам чисто человеческого опыта художника. В этом выборе присутствует тот биографизм переживания материала, который Г.Башляр называл «материальной сокровенностью» - то есть обусловленность образа толщей переживаний материального мира. Был ещё один момент – тактильный. Дик боялся опосредований, в том числе и в плане материальной и технической, исполнительской стороны своего искусства: не иначе как максимальный, прямой контакт. Он наносит цвет на наждачную бумагу мелками, но и пальцами, втирает его в шероховатую, царапающую поверхность: живопись входит в какой-то новый контакт с основой, символическая «трата себя» в искусстве обретает физическую подоплёку. Был здесь и эстетический план:наждак стал визуальным синонимом очищения от визуального благополучия, эстетской интонациональной уравновешенности.
К началу 1990-х Дик – мощно заявивший о себе художник. Корпус его произведений внушителен, за его спиной – выставочная история на родине и зарубежом, его приметили ведущие искусствоведы старшего и среднего поколений – те из них, которые ценят материальный план изображения, способны к навигации в нем. Я специально делаю оговорку. Критика, воспитанная концептуальной линией андеграунда, его не замечает. Впрочем, она тогда вообще равнодушна к «чужим», - тем, кто вне «актуального дискурса». Дик вне сферы интересов этих критиков по нескольким разнородным причинам: родом не из андеграунда, реализует себя в живописной репрезентации, далек от интенций торпедировать сам статус HighArt , подчёркнуто серьёзен, принципиально отрицает игровые практики. Вне московской тусовки (термин уже носит историко-культурный характер, его легализовал В.Мизиано, вскрывший институционально-коммуникативное содержание присутствия тусовки в художественной жизни с конца 1980-х гг. ************
Вообще – из Владимира. К тому же – график.
Вопрос цеховой принадлежности в позднесоветской и постсоветской культурах – вовсе не праздный. Скорее, болезненный. Вспомним, как осознанно, исходя из каких-то глубинных самоидентификационных мотивов, выбирал Дик графику как средство самовыражения в начале своего пути. Ко второй половине 1980-х ситуация изменилась.
Казалось бы, здесь нет особых сложностей – специализация по виду искусства и функции традиционна. Занимаешься «фирменными» графическими техниками и материалами (пастель традиционно к ним относилась), работаешь в определенном масштабе, соответствуешь профессиональному (он же формальный) цензу, - значит, график, прямая дорога – в графическую секцию творческого союза. На момент становления Дика-художника всё это работало, более того, задавало определенный либеральный вектор свободы: как уже говорилось выше, графики были, пожалуй, наиболее культурным, продвинутым контингентом среди художников огосударствленного советского искусства. Ко второй половине 1980-х, как мне представляется, графическая институализация стала определенным тормозом. Здесь уместно вспомнить о том, что, как ни «общепримирительна» в позднесоветские годы была графика, само ее, в некотором роде, отдельное состояние в своем генезисе имело идеологическую установку. Единый творческий союз, заменивший в 1932 году весь спектр направлений и течений двадцатых, сразу же был поделен на специализированные по видам искусства секции. Эта разбивка преследовала отнюдь не декларируемые цели оздоровления творческого процесса. На деле власти реализовывали старый государственный принцип: разделяй и властвуй. Облегчался идеологический контроль и присмотр, централизованно, «сверху», распределялись «средства производства» (материалы, мастерские и пр.) и средства мотивации – материальные (госзаказ в отсутствии рынка) и моральные (звания, награды и пр.) стимулы. Все это вызывало ответную реакцию. «Вы нас ставите в зависимость, почти крепостную, от цеха, от техники и материала, от расценок, - так мы добьемся такой глубины «узкой» профессионализации, степени каковой вы и не поймете». К 1980-м статусная графика добилась пика профессиональной самореализации (условности, метафоричности, тонкости интерпретации и пр., не говоря уже о технической изощренности). При этом стало ясным: сосредоточенность на профессиональных нюансах нередко стала приобретать герметичный характер. Как собственно в графике, так и в языке ее описания и толкования...
В этом была, конечно, советская специфика. В западном contemporary art в наше время почти не применяется понятие графика. Кроме как в каталожном, фиксирующем смысле — техника, материал. Предполагается, что художник contemporary, вообще представитель актуального искусства, не имеет узкой специализации. Даже если он использует специфические, легко опознаваемые традиционные выразительные средства и материалы. Ну не придёт никому в голову назвать графиком, скажем, Р. Петтибона (R. Pettibon), хотя это художник не только рисующий, но концептуально отсылающий к жанрам комикса и карикатуры. Так же, например, как и Ф. Клементе (F. Clemente): что бы он ни создавал, фреску или картину, драйв экспрессивного, подпитанного энергетикой граффити, рисования очевиден. Или В. Кентриджа (W. Kentridge), у которого и картины, и анимации построены на силуэтности и драматизме отношений черного и белого. Однако ассоциировать это с графикой?
В позднесоветский период эта проблема творческой идентификации в качестве дискуссионной вообще не стояла. Жизнь творческого союза инерционно дробилась «по секциям» (Среди которых, конечно, определенная иерархия была – на первом месте всегда стояла живопись, а в живописи -«сюжетно-тематическая картина»).Конечно, среди более или менее культурных мастеров было понимание, что, например, В.Фаворский с его форматом гравюрного листа, или Д.Митрохин, на клочке бумаги рисовавший аптекарскую посуду, были художниками несопоставимого с «самыми главными академиками- картинщиками» масштаба. Но в целом цеховое самоопределение не становилось предметом особой рефлексии: рутинное дело. И. Кабаков, всю жизнь много и плодотворно рисует, в качестве советского художника «без всяких обид» именовался графиком и даже книжным графиком. Другое дело, в среде андеграунда тот же Кабаков не был «графиком». Как и Ю.Злотников, создававший свои «сигналы» в гуаши и акварели, или Л.Лион, реализовавший свои абстракции в перовом рисунке… Передовой отряд андеграунда ( возможно, вследствие осознанной ориентации на западноеcontemporary, но скорее всего – неотрефлексированно, интуитивно) уже к 1980-м осознал, что «цеховое» разделение стало тормозить художественный процесс. Современный художник – это прежде всего состояние сознания. Уход в цеховую специфику, в большой степени «прикладной», навязанный ( как об этом говорилось выше), лимитировал «авторство» той картинки мира которая транслировала это состояние сознания.************
В позднесоветский период это цеховое торможение ( ещё раз напомню, дело не в рутинных организационных формах : цеховое сознание лимитировало поэтику) характерно не только для графики, но, скажем, и для декоративно-прикладного искусства. Здесь так же наблюдаются синхронные с графикой процессы видового расцвета, небывалого в своей изощренности. И вместе с тем – процессы деактуализации и даже маргинализации в контексте развития общемировогоcontemporaryart( я сознательно даю английский термин, потому что русский эквивалент традиционно воспринимается, опять же в отечественной аудитории, в несколько иных коннотациях: современный художник – живущий «в наше время», не более того). Касалось ли всё это творчества Дика? Скажу сразу, художник едва ли задумывался об этой проблематике. Работал, как мог, на пределе сил. О стратеги презентации, похоже, и не помышлял. Но я счёл возможным затронуть вопросы представлений о типологии современного художника в монографии о Дике. Потому, хотя бы, что они повлияли на восприятие его искусства «поколением next» - критикой 1990-х. График, пусть даже самого высокого класса? – это по ведомству критиков-гурманов, смакующих материальный план произведения в его технических тонкостях и органичности. Критика поколения next в ту пору выбирает искусство идей. График Дик, при всём уважении, у критики этого толка не вызывал особого интереса. Что – несправедливо, ибо Дик к тому времени – не график.
Отпадение Дика от графики – в сегодняшней перспективе – сам по себе процесс содержательный. Старшие современники Дика (или художники его поколения, чьё развитие было принципиально «завязано» на традицию, пусть самую высокую – Б.Власов, например, или В. Вальцефер), статусные советские графики, оставались в рамках прежних цеховых представлений. Их можно понять: в течение многих лет они добивались права на профессионализм в высоком смысле, на графическую культуру, что означало отказ от прямой миметичности и тематической ангажированности. Однако вектор «сохранения традиций» на каком-то этапе стал причиной торможения и академизации.
Сохранилась стенорамма обсуждения выставки П.Дика в ЛОСХе (1985). Выступали лучшие питерские графики: «Верная мера обобщения», «внутренняя геометрия», «внутренние ходы пластического мышления», «любовное, бережное отношение к пространству». Что стоит за этими лексемами? Прежде всего, действительно, выстраданная культура понимания процессов формообразования. Но и другое: язык описания, заточенный для анализа нюансов формообразования, отказывал при необходимости реально выходить как на экзистенцию, так и на конкретику текущей жизни. А, коль скоро говорят художники, это опосредованно свидетельствуют и об их творческих тенденциях. О самореферентности, в частности. Тем удивительнее сохранившийся текст короткого выступления ( Кира Сергеевна, нужно посмотреть в стенограмме – стр 52 – кто автор?Костров?): «Пейзажи – по преимуществу тоже декорации драмы. Достаточно просто напомнить листы, где ветер терзает белые простыни. – «Проходная», «Композиция I», «Брошенная фабрика». А «Натюрморт со свечей», где предметы, даже недеформированные, превращаются в чистые лирические емкости, что достойно кисти Моранди».************* Какое точное попадание – «чистые лирические емкости». Но главное – проведено сравнение с Моранди. Значит, прочувствовано – новое измерение творчества Дика.
Но сначала – вернемся к вопросу о «цеховом»: со середины 1980-х Дик – не график. Он - художник надцехового типа, просто современный художник. Думаю, этот отрыв он не рефлексировал специально. Продолжал вращаться в «графической» среде, участвовал в графических выставках – почему бы и нет? С андеграундом – там уже «графиков» не было, эта самоидентификация как-то отпала ( «Горком графиков» был, но даже самые непритязательные экспоненты его полуразрешенных выставок графиками себя не считали), – он не общался тесно, культурная среда творческих союзов продолжала инерцию самососредоточенности. Графики были наиболее интеллектуальной частью этой среды, это не раз здесь отмечалось, многие графики были Дику по-человечески близки. Но вот что интересно: Дик как художник эволюционирует не в формально-техническом, «графическом» плане: формульность, рисуночная огранка, рафинированность, энергичный стиль рисования – все эти термины из графического обихода – не из его словаря. Он всё так же оперирует пастелью и наждачной бумагой, втирает цвет в основу, обобщение, к которому он склонен, не носит откровенно выраженный геометрично-графичный характер (Даже когда он работает с правильной геометрической формой – зонтом, лампой и пр., - он, скорее, её лепит, во всяком случае, формует с тактильным усилием.Никакого рисовального щегольства, столь ценимого, например, в Ленинграде).
Думаю, он не один в своей цеховой среде, ставил, условно говоря, надграфические задачи. Вспоминается Б.Маркевич, ещё несколько считанных имен.
Так вот, к концу 1980-х Дик – современный художник, работающий в живописной репрезентации. Он – автор большого корпуса произведений. Собственно, его жизнь переплавлена в этом Corpus, репрезентирующем мощную авторскую волю к целому.
Что означает это целое по Дику? (Прямо по Баумайстеру – «художник – орган целостного мира»). Конечно, повторюсь, - искусство художника мироощущенчески проникнуто болью. Этот сквозной мотив тематизирован. «Боль»: человек с перевязанной рукой. Лицо – снова по-малевически обезличено, без черт, оно, и открытая часть руки – пульсирующе-красного цвета. Разверстый черный рот. Красное здесь – обескоженность, метафора лишенности защитных покровов, полной незащищенности перед физической или нравственной мукой. «Травма» - две удаляющиеся фигуры. Одна поддерживает другую. Хрупкая женская – тяжелую, осевшую – мужскую. Темный силуэт дан на белом фоне – разреженном, пульсирующем каким-то неземным, не предметно мотивированным, метафизическим светом. Ближний к зрителю силуэт – тоже даётся белым, но - другим. Предметным: это цвет медицинского халата. Потрясающая деталь – красная полоса, как бы стекающая по спине красная струйка. Она так же мотивирована предметно – это цвет кофты под халатом. Но, конечно, бытовой момент начисто смывается, символический – преобладает. Л.Марц в своем отличном описании этой вещи – и красной линии – струйки в частности, приводит строчку из «Молитвы о словах» С.Аверинцева: «Просвет любви и боли». Далее она, постоянный интервьюер художника, приводит слова Дика по поводу другой работы, «Сестры»: «Вначале возникло ощущение: с одной стороны – свеча, с другой – что-то монашеское. Монашеское и свечение, монашеское и светоносное, и в этом родство. И нашлось решение».*************
Да, пора внимательнее рассмотреть «эмоциональный состав» диковскогоCorpus. Итак, травматическая сторона очевидна. И описана : «Художник, опираясь на только одному ему ведомые ощущения и представления, так создавал свой мир, ясно видимый лишь для него и показанный нам потом, в формах убедительных, запоминающихся и тревожных. Где нет движения, но и нет покоя. Всё полно ожидания. Чего? Думается, что катастрофы».***************
«Мир Дика глухо и ревниво закрыт, - вторит ему Э.Кузнецов.- Подспудно ощутимы драматизм таится где-то в его глубине. Люди упорно скрывают свои лица, не желая делиться с нами этим драматизмом, -поворачиваются спиной, отворачиваются в сторону, низко склоняют голову. И здания смотрят, как слепые, редкими глазницами окон – в них не мелькнет ни лицо, ни силуэт, в них нет даже признаков чьего-то обитания. Лишь иногда из разверстых проемов исходит неестественно ровное и сильное свечение – притягательное и слегка пугающее в своей непонятности».****************
Надо сказать, высокопрофессиональный критик всегда, в силу самой тончайшей организации своей тактильно-духовной настройки, транслирует в самом описании, в анализе вещи нечто большее, чем главная, сразу же считываемая установка. В.Турчин, отмечая главный вектор – катастрофичность сознания, в другой части своего текста пишет: «то, что видимо, освещено тем светом, который светит из другого мира». О «свечении, притягательном и слегка пугающем в своей непонятности» пишет Э.Кузнецов. «Светоносность его пастелей невозможно рассматривать в рамках профессиональных категорий, что это явление совершенно иного порядка – чисто духовное», - отмечает Л.Марц.*****************
Этот второй, метафизический полюс искусства Дика. Corpus Дика осуществляется в двух этих полюсах.
Похоже, мотив шествий (в связи с затронутым выше мотивом горизонта в его духовных коннотациях) знаменовал определенные изменения в мирочувствовании художника. Разумеется, мироощущение (в прямом, не идеологизированном смысле: не система воззрений на мир, но мир реакций на реальность) Дика сохраняло элементы драматизма и травматические рецидивы. Но оно далеко не исчерпывается этими параметрами. «Шествия» - в прямом смысле - ведут к другим, возможно, пока ещё только брезжущим, горизонтам стабильности и духовной ясности. «Простим угрюмство – разве это // Сокрытый двигатель его?». Эта надежда на лучшее, эта духовная просветленность – наверное, самая симпатичная сторона творческого мира зрелого Дика.
Мироощущенческие установки художника не остаются на уровне деклараций, как всегда у Дика, они реализуются с предельной живописно-пластической отдачей. Да, теперь время вести разговор о фактурно-живописных исканиях художника.
К середине 1980-х Дик начинает работать преимущественно на наждачной бумаге. Такой выбор не был случайным или экстравагантным: путём долгого отбора художник «вышел» на технику ( материал), наиболее отвечающий его интенциям. Пастель и уголь плотно и вязко «садились» на наждачную поверхность. Проявлялась своего рода зернь (как на литографском камне, но только собственной тактильной природы), цвет не забивал все поры поверхности: и цвет, и его носитель, основа, - «дышали», дрожали, вибрировали ( Снова вспомню острый, ныне забытый авторский термин Бакушинского : тремолирующая живописная оболочка).
Но важнее было другое. Наждак, его скребущая фактура, не только, так сказать, технически, но и метафорически являет собой образ шероховатости, снятия всего внешнего, наносного. Дик вспоминал об «обнаженности» своего мировоспрития на определенном этапе. Царапающая фактура наждака, конечно, апеллировала к каким-то аспектам чисто человеческого опыта художника. В этом выборе присутствует тот биографизм переживания материала, который Г.Башляр называл «материальной сокровенностью» - то есть обусловленность образа толщей переживаний материального мира. Был ещё один момент – тактильный. Дик боялся опосредований, в том числе и в плане материальной и технической, исполнительской стороны своего искусства: не иначе как максимальный, прямой контакт. Он наносит цвет на наждачную бумагу мелками, но и пальцами, втирает его в шероховатую, царапающую поверхность: живопись входит в какой-то новый контакт с основой, символическая «трата себя» в искусстве обретает физическую подоплёку. Был здесь и эстетический план:наждак стал визуальным синонимом очищения от визуального благополучия, эстетской интонациональной уравновешенности.
К началу 1990-х Дик – мощно заявивший о себе художник. Корпус его произведений внушителен, за его спиной – выставочная история на родине и зарубежом, его приметили ведущие искусствоведы старшего и среднего поколений – те из них, которые ценят материальный план изображения, способны к навигации в нем. Я специально делаю оговорку. Критика, воспитанная концептуальной линией андеграунда, его не замечает. Впрочем, она тогда вообще равнодушна к «чужим», - тем, кто вне «актуального дискурса». Дик вне сферы интересов этих критиков по нескольким разнородным причинам: родом не из андеграунда, реализует себя в живописной репрезентации, далек от интенций торпедировать сам статус HighArt , подчёркнуто серьёзен, принципиально отрицает игровые практики. Вне московской тусовки (термин уже носит историко-культурный характер, его легализовал В.Мизиано, вскрывший институционально-коммуникативное содержание присутствия тусовки в художественной жизни с конца 1980-х гг. ************
Вообще – из Владимира. К тому же – график.
Вопрос цеховой принадлежности в позднесоветской и постсоветской культурах – вовсе не праздный. Скорее, болезненный. Вспомним, как осознанно, исходя из каких-то глубинных самоидентификационных мотивов, выбирал Дик графику как средство самовыражения в начале своего пути. Ко второй половине 1980-х ситуация изменилась.
Казалось бы, здесь нет особых сложностей – специализация по виду искусства и функции традиционна. Занимаешься «фирменными» графическими техниками и материалами (пастель традиционно к ним относилась), работаешь в определенном масштабе, соответствуешь профессиональному (он же формальный) цензу, - значит, график, прямая дорога – в графическую секцию творческого союза. На момент становления Дика-художника всё это работало, более того, задавало определенный либеральный вектор свободы: как уже говорилось выше, графики были, пожалуй, наиболее культурным, продвинутым контингентом среди художников огосударствленного советского искусства. Ко второй половине 1980-х, как мне представляется, графическая институализация стала определенным тормозом. Здесь уместно вспомнить о том, что, как ни «общепримирительна» в позднесоветские годы была графика, само ее, в некотором роде, отдельное состояние в своем генезисе имело идеологическую установку. Единый творческий союз, заменивший в 1932 году весь спектр направлений и течений двадцатых, сразу же был поделен на специализированные по видам искусства секции. Эта разбивка преследовала отнюдь не декларируемые цели оздоровления творческого процесса. На деле власти реализовывали старый государственный принцип: разделяй и властвуй. Облегчался идеологический контроль и присмотр, централизованно, «сверху», распределялись «средства производства» (материалы, мастерские и пр.) и средства мотивации – материальные (госзаказ в отсутствии рынка) и моральные (звания, награды и пр.) стимулы. Все это вызывало ответную реакцию. «Вы нас ставите в зависимость, почти крепостную, от цеха, от техники и материала, от расценок, - так мы добьемся такой глубины «узкой» профессионализации, степени каковой вы и не поймете». К 1980-м статусная графика добилась пика профессиональной самореализации (условности, метафоричности, тонкости интерпретации и пр., не говоря уже о технической изощренности). При этом стало ясным: сосредоточенность на профессиональных нюансах нередко стала приобретать герметичный характер. Как собственно в графике, так и в языке ее описания и толкования...
В этом была, конечно, советская специфика. В западном contemporary art в наше время почти не применяется понятие графика. Кроме как в каталожном, фиксирующем смысле — техника, материал. Предполагается, что художник contemporary, вообще представитель актуального искусства, не имеет узкой специализации. Даже если он использует специфические, легко опознаваемые традиционные выразительные средства и материалы. Ну не придёт никому в голову назвать графиком, скажем, Р. Петтибона (R. Pettibon), хотя это художник не только рисующий, но концептуально отсылающий к жанрам комикса и карикатуры. Так же, например, как и Ф. Клементе (F. Clemente): что бы он ни создавал, фреску или картину, драйв экспрессивного, подпитанного энергетикой граффити, рисования очевиден. Или В. Кентриджа (W. Kentridge), у которого и картины, и анимации построены на силуэтности и драматизме отношений черного и белого. Однако ассоциировать это с графикой?
В позднесоветский период эта проблема творческой идентификации в качестве дискуссионной вообще не стояла. Жизнь творческого союза инерционно дробилась «по секциям» (Среди которых, конечно, определенная иерархия была – на первом месте всегда стояла живопись, а в живописи -«сюжетно-тематическая картина»).Конечно, среди более или менее культурных мастеров было понимание, что, например, В.Фаворский с его форматом гравюрного листа, или Д.Митрохин, на клочке бумаги рисовавший аптекарскую посуду, были художниками несопоставимого с «самыми главными академиками- картинщиками» масштаба. Но в целом цеховое самоопределение не становилось предметом особой рефлексии: рутинное дело. И. Кабаков, всю жизнь много и плодотворно рисует, в качестве советского художника «без всяких обид» именовался графиком и даже книжным графиком. Другое дело, в среде андеграунда тот же Кабаков не был «графиком». Как и Ю.Злотников, создававший свои «сигналы» в гуаши и акварели, или Л.Лион, реализовавший свои абстракции в перовом рисунке… Передовой отряд андеграунда ( возможно, вследствие осознанной ориентации на западноеcontemporary, но скорее всего – неотрефлексированно, интуитивно) уже к 1980-м осознал, что «цеховое» разделение стало тормозить художественный процесс. Современный художник – это прежде всего состояние сознания. Уход в цеховую специфику, в большой степени «прикладной», навязанный ( как об этом говорилось выше), лимитировал «авторство» той картинки мира которая транслировала это состояние сознания.************
В позднесоветский период это цеховое торможение ( ещё раз напомню, дело не в рутинных организационных формах : цеховое сознание лимитировало поэтику) характерно не только для графики, но, скажем, и для декоративно-прикладного искусства. Здесь так же наблюдаются синхронные с графикой процессы видового расцвета, небывалого в своей изощренности. И вместе с тем – процессы деактуализации и даже маргинализации в контексте развития общемировогоcontemporaryart( я сознательно даю английский термин, потому что русский эквивалент традиционно воспринимается, опять же в отечественной аудитории, в несколько иных коннотациях: современный художник – живущий «в наше время», не более того). Касалось ли всё это творчества Дика? Скажу сразу, художник едва ли задумывался об этой проблематике. Работал, как мог, на пределе сил. О стратеги презентации, похоже, и не помышлял. Но я счёл возможным затронуть вопросы представлений о типологии современного художника в монографии о Дике. Потому, хотя бы, что они повлияли на восприятие его искусства «поколением next» - критикой 1990-х. График, пусть даже самого высокого класса? – это по ведомству критиков-гурманов, смакующих материальный план произведения в его технических тонкостях и органичности. Критика поколения next в ту пору выбирает искусство идей. График Дик, при всём уважении, у критики этого толка не вызывал особого интереса. Что – несправедливо, ибо Дик к тому времени – не график.
Отпадение Дика от графики – в сегодняшней перспективе – сам по себе процесс содержательный. Старшие современники Дика (или художники его поколения, чьё развитие было принципиально «завязано» на традицию, пусть самую высокую – Б.Власов, например, или В. Вальцефер), статусные советские графики, оставались в рамках прежних цеховых представлений. Их можно понять: в течение многих лет они добивались права на профессионализм в высоком смысле, на графическую культуру, что означало отказ от прямой миметичности и тематической ангажированности. Однако вектор «сохранения традиций» на каком-то этапе стал причиной торможения и академизации.
Сохранилась стенорамма обсуждения выставки П.Дика в ЛОСХе (1985). Выступали лучшие питерские графики: «Верная мера обобщения», «внутренняя геометрия», «внутренние ходы пластического мышления», «любовное, бережное отношение к пространству». Что стоит за этими лексемами? Прежде всего, действительно, выстраданная культура понимания процессов формообразования. Но и другое: язык описания, заточенный для анализа нюансов формообразования, отказывал при необходимости реально выходить как на экзистенцию, так и на конкретику текущей жизни. А, коль скоро говорят художники, это опосредованно свидетельствуют и об их творческих тенденциях. О самореферентности, в частности. Тем удивительнее сохранившийся текст короткого выступления ( Кира Сергеевна, нужно посмотреть в стенограмме – стр 52 – кто автор?Костров?): «Пейзажи – по преимуществу тоже декорации драмы. Достаточно просто напомнить листы, где ветер терзает белые простыни. – «Проходная», «Композиция I», «Брошенная фабрика». А «Натюрморт со свечей», где предметы, даже недеформированные, превращаются в чистые лирические емкости, что достойно кисти Моранди».************* Какое точное попадание – «чистые лирические емкости». Но главное – проведено сравнение с Моранди. Значит, прочувствовано – новое измерение творчества Дика.
Но сначала – вернемся к вопросу о «цеховом»: со середины 1980-х Дик – не график. Он - художник надцехового типа, просто современный художник. Думаю, этот отрыв он не рефлексировал специально. Продолжал вращаться в «графической» среде, участвовал в графических выставках – почему бы и нет? С андеграундом – там уже «графиков» не было, эта самоидентификация как-то отпала ( «Горком графиков» был, но даже самые непритязательные экспоненты его полуразрешенных выставок графиками себя не считали), – он не общался тесно, культурная среда творческих союзов продолжала инерцию самососредоточенности. Графики были наиболее интеллектуальной частью этой среды, это не раз здесь отмечалось, многие графики были Дику по-человечески близки. Но вот что интересно: Дик как художник эволюционирует не в формально-техническом, «графическом» плане: формульность, рисуночная огранка, рафинированность, энергичный стиль рисования – все эти термины из графического обихода – не из его словаря. Он всё так же оперирует пастелью и наждачной бумагой, втирает цвет в основу, обобщение, к которому он склонен, не носит откровенно выраженный геометрично-графичный характер (Даже когда он работает с правильной геометрической формой – зонтом, лампой и пр., - он, скорее, её лепит, во всяком случае, формует с тактильным усилием.Никакого рисовального щегольства, столь ценимого, например, в Ленинграде).
Думаю, он не один в своей цеховой среде, ставил, условно говоря, надграфические задачи. Вспоминается Б.Маркевич, ещё несколько считанных имен.
Так вот, к концу 1980-х Дик – современный художник, работающий в живописной репрезентации. Он – автор большого корпуса произведений. Собственно, его жизнь переплавлена в этом Corpus, репрезентирующем мощную авторскую волю к целому.
Что означает это целое по Дику? (Прямо по Баумайстеру – «художник – орган целостного мира»). Конечно, повторюсь, - искусство художника мироощущенчески проникнуто болью. Этот сквозной мотив тематизирован. «Боль»: человек с перевязанной рукой. Лицо – снова по-малевически обезличено, без черт, оно, и открытая часть руки – пульсирующе-красного цвета. Разверстый черный рот. Красное здесь – обескоженность, метафора лишенности защитных покровов, полной незащищенности перед физической или нравственной мукой. «Травма» - две удаляющиеся фигуры. Одна поддерживает другую. Хрупкая женская – тяжелую, осевшую – мужскую. Темный силуэт дан на белом фоне – разреженном, пульсирующем каким-то неземным, не предметно мотивированным, метафизическим светом. Ближний к зрителю силуэт – тоже даётся белым, но - другим. Предметным: это цвет медицинского халата. Потрясающая деталь – красная полоса, как бы стекающая по спине красная струйка. Она так же мотивирована предметно – это цвет кофты под халатом. Но, конечно, бытовой момент начисто смывается, символический – преобладает. Л.Марц в своем отличном описании этой вещи – и красной линии – струйки в частности, приводит строчку из «Молитвы о словах» С.Аверинцева: «Просвет любви и боли». Далее она, постоянный интервьюер художника, приводит слова Дика по поводу другой работы, «Сестры»: «Вначале возникло ощущение: с одной стороны – свеча, с другой – что-то монашеское. Монашеское и свечение, монашеское и светоносное, и в этом родство. И нашлось решение».*************
Да, пора внимательнее рассмотреть «эмоциональный состав» диковскогоCorpus. Итак, травматическая сторона очевидна. И описана : «Художник, опираясь на только одному ему ведомые ощущения и представления, так создавал свой мир, ясно видимый лишь для него и показанный нам потом, в формах убедительных, запоминающихся и тревожных. Где нет движения, но и нет покоя. Всё полно ожидания. Чего? Думается, что катастрофы».***************
«Мир Дика глухо и ревниво закрыт, - вторит ему Э.Кузнецов.- Подспудно ощутимы драматизм таится где-то в его глубине. Люди упорно скрывают свои лица, не желая делиться с нами этим драматизмом, -поворачиваются спиной, отворачиваются в сторону, низко склоняют голову. И здания смотрят, как слепые, редкими глазницами окон – в них не мелькнет ни лицо, ни силуэт, в них нет даже признаков чьего-то обитания. Лишь иногда из разверстых проемов исходит неестественно ровное и сильное свечение – притягательное и слегка пугающее в своей непонятности».****************
Надо сказать, высокопрофессиональный критик всегда, в силу самой тончайшей организации своей тактильно-духовной настройки, транслирует в самом описании, в анализе вещи нечто большее, чем главная, сразу же считываемая установка. В.Турчин, отмечая главный вектор – катастрофичность сознания, в другой части своего текста пишет: «то, что видимо, освещено тем светом, который светит из другого мира». О «свечении, притягательном и слегка пугающем в своей непонятности» пишет Э.Кузнецов. «Светоносность его пастелей невозможно рассматривать в рамках профессиональных категорий, что это явление совершенно иного порядка – чисто духовное», - отмечает Л.Марц.*****************
Этот второй, метафизический полюс искусства Дика. Corpus Дика осуществляется в двух этих полюсах.
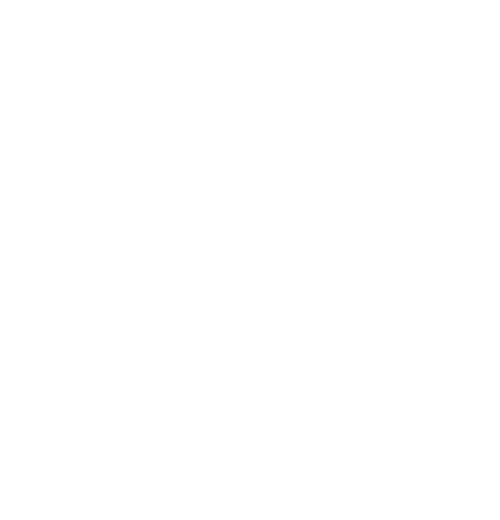
«Двое VI», 2000
“
«На скамье», «Пейзаж с домом» - метафоры абсолютной покинутости. В первой работе эта тема задана тематически - ссутулившейся фигурой старой женщины со склоненной головой и с опущенными руками : «всё в прошлом». Но она задана и композиционно : фигура сдвинута относительно центра, линия горизонта –граница окраски стены – как бы придавливает её сверху, выталкивает из пространства: женщина не сидит на скамье, она именно приютилась, притулилась… И, наконец, тема разрешается в свете: он заливает сцену абсолютно ровно, мертвенно… В «Пейзаже с домом» нет человеческой фигуры и, соответственно, свернутой жанровости. Обобщение предельно: тяготеющая к крестообразной композиция - столбик-вертикаль, горизонталь – то ли горизонт, то ли канал с черной водой. И здесь главную роль играет цвет: он опредмечен (снег с черными точками копоти), выступает без световой линзы. Собственно, главная нагрузка на нем: это «онаждаченный», эмоционально царапающий цвет (То, что делает Дик с наждачной бумагой, перекликается с интереснейшей работой, которую ведёт И.Затуловская с другими поверхностями – кровельным железом, стиральными досками и пр. И не только : многие художники – если брать только живописную репрезентацию – работали с трэшевыми материалами: мешковиной, гофрированным картоном, отходами различных производств. Все рассчитывали на – вспомним Башляра - ресурс «материальной сокровенности», другое дело – он не всем давался в руки). Постепенно, однако, и свет, и цвет (их трудно выделять вне взаимозависимости – в конце концов, речь идёт о светосиле цвета) у Дика начинают играть иную роль. Он сам даёт этому определение: «зажатый свет». (Поразительная перекличка с метафорикой А.Вознесенского : «Можно и не быть поэтом, но нельзя терпеть, пойми, как кричит полоска света, прищемленная дверьми»).
Свет у Дика часто действительно зажат, «прищемлен». Но всё чаще он высвобождается. Постепенно. В «Переходе» это ещё неестественный, «бессмысленный и тусклый свет». Но постепенно этот свет, проникая в цвет и сообщая ему внутреннее свечение, обретает совсем другое образное содержание. Чаще всего он взаимодействует с белым – пастельным, не ахроматичным, а многосоставным – теплым, топлено-молочным («Светлый луч»). «На качелях», «Лежащая фигура», «Прогулка», «В поле» - звучание, мерцание белого лишены ожидаемого символического подтекста – «белые одежды» и пр. Но и бытового подтекста – простого обозначения цвета юбок и платков – явно недостаточно. Белый включает фактор времени. Пятна белого, подготовленные всем развитием цветовой гаммы, как радары, улавливающие зрительские взгляды, знаменуют собой состояния длительности, временной протяженности, готовности к метаморфозам. В «Юноше со свитком» этот хронотоп предстаёт наглядно: звучание белого подготовлено композиционно (центрированная, почти эмблематичная композиция) и колористически. Сам белый находится в развитии: между свитком в руках юноши и его шапочкой идет какой-то взаимооборот белого, создается впечатление, что включен режим мерцания белого во времени. « За игрой» - не только мерцание белого, но и белое как прорыв в иное пространство. Раскрытые ноты, полоска клавиш – цвет работает изнутри картины вовне, фигурка играющей девочки находится на границе двух пространств. В этой работе, как и в нескольких других, есть знаменательный изобразительный мотив: заплетенная косичка и бантик своими очертаниями образуют крест. Не думаю, что это намек на сакральность: слишком уж «лобовой» символизм для поэтики Дика, построенной на сложных интерференциях пространства, времени, цвета и света. Смысл «мягких формул» Дика («Двое VI», «Двое VII», «В поле», «Женщина в красной жилетке»), думаю, иной: художник «завязывает узлы» из цвета и света…
Кстати, возвращаясь к хронотопу, - он «включен» уже не только по отношению к белому. Красный, оранжевый, желтый («Двое VI») так же работают волнами, во временном режиме мерцания. Здесь так же есть мотив креста – вертикаль девичьей косы и горизонтальный штрих бантика, но тема инобытия задана прежде всего этим временным маятником: уходом-возвращением цветовой волны. «На праздник» - трансформация вечного мотива шествия: полоска людей-столбиков или, скорее, разноцветных свечек, у каждой фигурки – свое свечение. Эта цепочка людей пробирается по нижнему краю огромной, вбирающей различные свето-цветовые потоки плоскости – неба, декорации, стены? Но ощущения подавленности (всё-таки – вопиющий контраст масштабов) нет вовсе. Эта стена проходима, люди-свечки (метафоры духовного свечения) могут проникнуть за неё и могут вернуться. И свечки не будут затушены, язычки пламени сохранятся.
Несколькими годами ранее Дик напишет работу «Ночь. Остановка»: там желтая стена знаменовала собой взаимоотчужденность героев и абсолютную невозможность выхода – как в прямом, так и в метафорическом смысле. Мироощущенческий контраст между этими произведениями разителен.
Итак, предельно обобщая, - два полюса диковского Corpus. Безнадежность и надежда, визуально явленная в свечениях (естественно, в контекстах трансцедентности, инобытия). Прямой эмоциональный контакт, направленная на зрителя трансляция боли, тревоги, острого ощущения несовершенства мира. И, напротив, не менее острое ощущение метафизического начала: сюжетные и предметные ситуации не равны себе, главным их содержанием становится присутствие инобытия. Нельзя сказать, что одна установка хронологически сменяет другую: уже в первых зрелых вещах Дика они сосуществуют. В частности, метафизическое начало отчетливо считывается в диковских вратах и дверях, проходах и тупиках, согбенных и распрямившихся фигурах, в сгустках тьмы и цветовых свечениях. Но основной свод работ, позволяющий, в моем представлении, сблизить творчество Дика с метафизическим направлением отечественного искусства, не связана с метафизикой экзальтации, инсайта. Если свечения и присутствуют, то они опираются на эмпирически познаваемые пределы: опыт, по выражению Э.Булатова, «наличной жизни».
Зрелая метафизика Дика это – метафизика тишины. Помните уже приведенные в этом тексте слова Дика: «Мне бы хотелось погрузить зрителя в атмосферу тишины». Магритт, классик метафизичесой живописи, писал, в связи с арт-практикой другого лидера этого направления, Де Кирико: «Это было новое видение, благодаря которому зритель мог теперь узнать о своей собственной изоляции в мире и услышать его тишину».******************
Изоляция и тишина – это вполне применимо к зрелому Дику. Что значит изоляция в нашем контексте? Думаю, на каком-то этапе художник отказывается от описанного выше принципа прямой контактности и со зрителем, и с самим изображением. Он, похоже, нуждается в остановке, паузе, - он стоит на краю и не переступает порога. И зрителя не зовёт переступать: все эти «фирменные» диковские проемы, двери, окна уже не засасывают, как воронки, в некое пространство драмы. Тема порога межу пространством зрителя и художника и пространством визуального сформулирована в поздних натюрмортах художника («Натюрморт с черным объёмом», «Утюг», «Вечер», «Натюрморт с кринками», «Яблоко»). Л.Вострецова пишет в связи с ними о «принципе отстранения предмета».*******************
Я бы добавил старое понятие из арсенала «формального метода» 1920-х гг.: остранение. Действительно, предметности здесь отстранены и остранены, не равны себе, это отсылает к фирменному для метафизической живописи ощущению двойственности предметного мира. Вслед за натюрмортами, в вариантах «Отражения», этих формулах зеркальности, двойственность тематизирована буквально. Дик, разумеется, исходит из эволюции собственных мироощущенческих установок. Отстраненность (в «натюрмортном» случае, это «выход» из бытовых связей, в «Отражениях» - из физических координат: верх-низ, материальное-отраженное) необходима ему для полноты ощущения (и передачи) этой бытийной паузы в восприятии. Визуальность уже не затягивает в себя и не работает вовне (транслирует эмоцию по типу работы «Боль»). Она таит в себе некую тайну. Загадку. Нечто подобное – при всей полярности выразительных средств – предлагает Д.Краснопевцев, один из главных персонажей российского метафизического искусства. Во всех его натюрмортах есть некая пауза восприятия: тема дистанцированности, знаменующая понимание тщеты проникновения в подлинный мир вещей. Эта «пауза загадки» задана объективизацией предметностей: ломкой, обманчивой, сфокусированной до степени, за которой только – дереализация. Другой представитель направления, В.Вейсберг, по словам В.Немухина, постигает тайну белизны, «откуда идёт Великое Молчание, подобное в материальном изображении холодной, в бесконечность уходящей стене, которую не перейти, не разрушить, - и под конец постиг её».********************
Искусство Э.Штейнберга с его, согласно самоописанию художника, «тоской о по истине и трансцедентному», также в своих метафизических интенциях апеллирует, по выражению К.Маркаде, к «жизни живописного». *********************
Имеются в виду высветленные, нежные и деликатные по синтезу цветовые состояния, характеризующиеся сближенными тональностями и форсированной светосилой. Именно этот фактор светоносности, высвеченности и дает основание говорить о «белом» ( в реальности общая тональность может приближаться к синевато-серой, салатной, светло-коричневой и т.д., причем в разных версиях теплохолодности). На эту материальную основу «накладывается» метафорика спиритуального плана – просветленная пустотность, она же Белая немота истины, область Белого света и пр. (на языке религиозно-философских интерпретаций его искусства 1970-х гг.).
В.Ситников так же метафизический подтекст выражал физикой и поэтикой белого – некой эманацией свечения.
Свет у Дика часто действительно зажат, «прищемлен». Но всё чаще он высвобождается. Постепенно. В «Переходе» это ещё неестественный, «бессмысленный и тусклый свет». Но постепенно этот свет, проникая в цвет и сообщая ему внутреннее свечение, обретает совсем другое образное содержание. Чаще всего он взаимодействует с белым – пастельным, не ахроматичным, а многосоставным – теплым, топлено-молочным («Светлый луч»). «На качелях», «Лежащая фигура», «Прогулка», «В поле» - звучание, мерцание белого лишены ожидаемого символического подтекста – «белые одежды» и пр. Но и бытового подтекста – простого обозначения цвета юбок и платков – явно недостаточно. Белый включает фактор времени. Пятна белого, подготовленные всем развитием цветовой гаммы, как радары, улавливающие зрительские взгляды, знаменуют собой состояния длительности, временной протяженности, готовности к метаморфозам. В «Юноше со свитком» этот хронотоп предстаёт наглядно: звучание белого подготовлено композиционно (центрированная, почти эмблематичная композиция) и колористически. Сам белый находится в развитии: между свитком в руках юноши и его шапочкой идет какой-то взаимооборот белого, создается впечатление, что включен режим мерцания белого во времени. « За игрой» - не только мерцание белого, но и белое как прорыв в иное пространство. Раскрытые ноты, полоска клавиш – цвет работает изнутри картины вовне, фигурка играющей девочки находится на границе двух пространств. В этой работе, как и в нескольких других, есть знаменательный изобразительный мотив: заплетенная косичка и бантик своими очертаниями образуют крест. Не думаю, что это намек на сакральность: слишком уж «лобовой» символизм для поэтики Дика, построенной на сложных интерференциях пространства, времени, цвета и света. Смысл «мягких формул» Дика («Двое VI», «Двое VII», «В поле», «Женщина в красной жилетке»), думаю, иной: художник «завязывает узлы» из цвета и света…
Кстати, возвращаясь к хронотопу, - он «включен» уже не только по отношению к белому. Красный, оранжевый, желтый («Двое VI») так же работают волнами, во временном режиме мерцания. Здесь так же есть мотив креста – вертикаль девичьей косы и горизонтальный штрих бантика, но тема инобытия задана прежде всего этим временным маятником: уходом-возвращением цветовой волны. «На праздник» - трансформация вечного мотива шествия: полоска людей-столбиков или, скорее, разноцветных свечек, у каждой фигурки – свое свечение. Эта цепочка людей пробирается по нижнему краю огромной, вбирающей различные свето-цветовые потоки плоскости – неба, декорации, стены? Но ощущения подавленности (всё-таки – вопиющий контраст масштабов) нет вовсе. Эта стена проходима, люди-свечки (метафоры духовного свечения) могут проникнуть за неё и могут вернуться. И свечки не будут затушены, язычки пламени сохранятся.
Несколькими годами ранее Дик напишет работу «Ночь. Остановка»: там желтая стена знаменовала собой взаимоотчужденность героев и абсолютную невозможность выхода – как в прямом, так и в метафорическом смысле. Мироощущенческий контраст между этими произведениями разителен.
Итак, предельно обобщая, - два полюса диковского Corpus. Безнадежность и надежда, визуально явленная в свечениях (естественно, в контекстах трансцедентности, инобытия). Прямой эмоциональный контакт, направленная на зрителя трансляция боли, тревоги, острого ощущения несовершенства мира. И, напротив, не менее острое ощущение метафизического начала: сюжетные и предметные ситуации не равны себе, главным их содержанием становится присутствие инобытия. Нельзя сказать, что одна установка хронологически сменяет другую: уже в первых зрелых вещах Дика они сосуществуют. В частности, метафизическое начало отчетливо считывается в диковских вратах и дверях, проходах и тупиках, согбенных и распрямившихся фигурах, в сгустках тьмы и цветовых свечениях. Но основной свод работ, позволяющий, в моем представлении, сблизить творчество Дика с метафизическим направлением отечественного искусства, не связана с метафизикой экзальтации, инсайта. Если свечения и присутствуют, то они опираются на эмпирически познаваемые пределы: опыт, по выражению Э.Булатова, «наличной жизни».
Зрелая метафизика Дика это – метафизика тишины. Помните уже приведенные в этом тексте слова Дика: «Мне бы хотелось погрузить зрителя в атмосферу тишины». Магритт, классик метафизичесой живописи, писал, в связи с арт-практикой другого лидера этого направления, Де Кирико: «Это было новое видение, благодаря которому зритель мог теперь узнать о своей собственной изоляции в мире и услышать его тишину».******************
Изоляция и тишина – это вполне применимо к зрелому Дику. Что значит изоляция в нашем контексте? Думаю, на каком-то этапе художник отказывается от описанного выше принципа прямой контактности и со зрителем, и с самим изображением. Он, похоже, нуждается в остановке, паузе, - он стоит на краю и не переступает порога. И зрителя не зовёт переступать: все эти «фирменные» диковские проемы, двери, окна уже не засасывают, как воронки, в некое пространство драмы. Тема порога межу пространством зрителя и художника и пространством визуального сформулирована в поздних натюрмортах художника («Натюрморт с черным объёмом», «Утюг», «Вечер», «Натюрморт с кринками», «Яблоко»). Л.Вострецова пишет в связи с ними о «принципе отстранения предмета».*******************
Я бы добавил старое понятие из арсенала «формального метода» 1920-х гг.: остранение. Действительно, предметности здесь отстранены и остранены, не равны себе, это отсылает к фирменному для метафизической живописи ощущению двойственности предметного мира. Вслед за натюрмортами, в вариантах «Отражения», этих формулах зеркальности, двойственность тематизирована буквально. Дик, разумеется, исходит из эволюции собственных мироощущенческих установок. Отстраненность (в «натюрмортном» случае, это «выход» из бытовых связей, в «Отражениях» - из физических координат: верх-низ, материальное-отраженное) необходима ему для полноты ощущения (и передачи) этой бытийной паузы в восприятии. Визуальность уже не затягивает в себя и не работает вовне (транслирует эмоцию по типу работы «Боль»). Она таит в себе некую тайну. Загадку. Нечто подобное – при всей полярности выразительных средств – предлагает Д.Краснопевцев, один из главных персонажей российского метафизического искусства. Во всех его натюрмортах есть некая пауза восприятия: тема дистанцированности, знаменующая понимание тщеты проникновения в подлинный мир вещей. Эта «пауза загадки» задана объективизацией предметностей: ломкой, обманчивой, сфокусированной до степени, за которой только – дереализация. Другой представитель направления, В.Вейсберг, по словам В.Немухина, постигает тайну белизны, «откуда идёт Великое Молчание, подобное в материальном изображении холодной, в бесконечность уходящей стене, которую не перейти, не разрушить, - и под конец постиг её».********************
Искусство Э.Штейнберга с его, согласно самоописанию художника, «тоской о по истине и трансцедентному», также в своих метафизических интенциях апеллирует, по выражению К.Маркаде, к «жизни живописного». *********************
Имеются в виду высветленные, нежные и деликатные по синтезу цветовые состояния, характеризующиеся сближенными тональностями и форсированной светосилой. Именно этот фактор светоносности, высвеченности и дает основание говорить о «белом» ( в реальности общая тональность может приближаться к синевато-серой, салатной, светло-коричневой и т.д., причем в разных версиях теплохолодности). На эту материальную основу «накладывается» метафорика спиритуального плана – просветленная пустотность, она же Белая немота истины, область Белого света и пр. (на языке религиозно-философских интерпретаций его искусства 1970-х гг.).
В.Ситников так же метафизический подтекст выражал физикой и поэтикой белого – некой эманацией свечения.
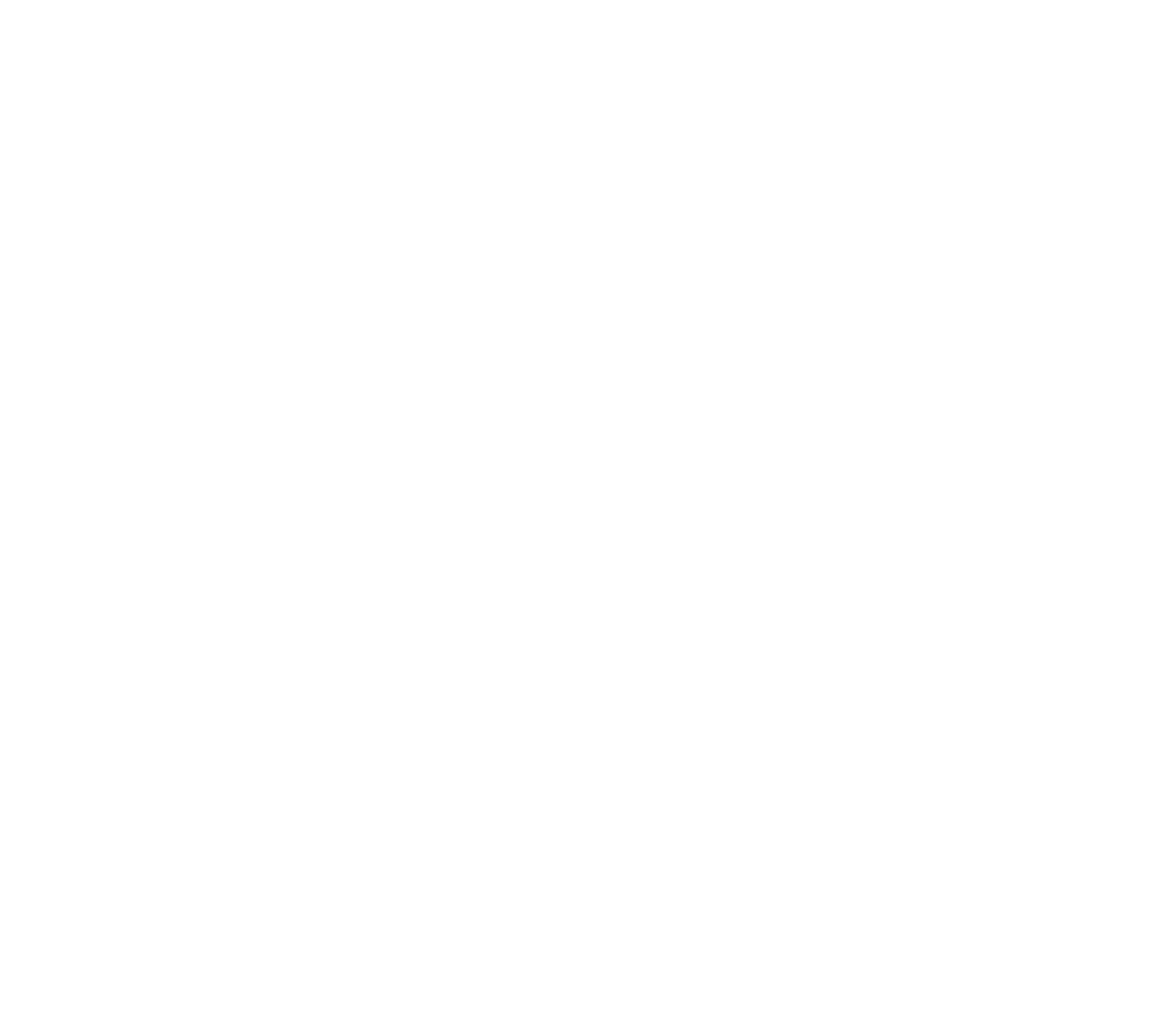
«Отражение»
“
Все термины, задействованные в дискурсе русского метафизического направления, применимы к творчеству Дика: выше не раз говорилось о спиритуальных подтекстах его композиционных и цветовых решений (пространственные прорывы, цвето-тональные свечения, метафорика белого). Но главными ключами к его поэтике позднего периода я бы назвал следующие: пауза (неподвижность, застылость), тишина, тайна. «Созерцающие», «Одинокая фигура», «Двое», «Под парусом», «Переход», «Прогулка», уже упоминавшееся «Отражение»,- для этих вещей все три позиции действенны. Э.Кузнецов выразительно описывает одну из них: «Мир Петра Дика неподвижен. Здесь все словно замерло: вода, дома, люди. Даже остроносые лодки у него не плывут, а бездействуют на берегу. Здесь ничего не совершается, ничего не происходит. Люди ничего не делают – чаще всего они просто стоят, замершие на месте. < … > Кажется, что мир живёт не своей собственной жизнью, а бесконечным и смутным ожиданием чего-то вне её».**********************
Автор воспринимает неподвижность в коннотациях безнадежности. Это понятно: он описал только одну позицию. Один вектор метафизичности. В их совокупности всё видится по- другому. Неподвижность, молчание, тишина – суть знаки отдельности бытия изображенного.
Изображенные фигуры существуют в очищенном пространстве взгляда. Они вовсе не ожидают вестей извне. Они как раз живут своей, свободной от воли зрителя, да и художника, духовной жизнью (Застылость, иконная неподвижность, «ничегонеделанье» – своего рода антижанризм, боязнь любых житейских «привязок»). От них самих зависит, перейдут ли они порог инобытия, или останутся в пространстве реального. Это – тайна. Художник отпустил их. Он выстрадал это право.
Петр Дик умер в 2002 г. в Ворпсведе – знаменитом немецком городке художников, в Центре современного искусства которого проходила выставка его произведений. Похоронен во Владимире.
Е.Боратынскому принадлежат формула: «И, как нашел я друга в поколенье,/ Читателя найду в потомстве я».
У Дика «в поколеньи» оказались верные друзья, ценители его таланта. Они многое сделали для диковского «зрителя в потомстве». Началась «жизнь после жизни»: выставочная активность, многочисленные публикации, присутствие в музейных собраниях. Если рассматривать корпус произведений Дика непредвзятым (то есть не обусловленным цеховыми, узко-направленческими, конъюнктурными и пр. обстоятельствами) взглядом, принадлежность художника к метафизическому направлению, одному из самых значительных в нашем искусстве, несомненно. И это констатация вовсе не означает некое «повышение в ранге». В чем - в чем, а в этом Дик и при жизни не нуждался: остался таким, каким он был. Это метафизическое направление приросло Диком. Просто наше видение искусства последней четверти прошедшего века стало объективнее. П.Дик нашел в нем свое место: большой художник, мятущаяся душа, удивительная способность «спорить с веком» и отстаивать свою правоту.
Автор воспринимает неподвижность в коннотациях безнадежности. Это понятно: он описал только одну позицию. Один вектор метафизичности. В их совокупности всё видится по- другому. Неподвижность, молчание, тишина – суть знаки отдельности бытия изображенного.
Изображенные фигуры существуют в очищенном пространстве взгляда. Они вовсе не ожидают вестей извне. Они как раз живут своей, свободной от воли зрителя, да и художника, духовной жизнью (Застылость, иконная неподвижность, «ничегонеделанье» – своего рода антижанризм, боязнь любых житейских «привязок»). От них самих зависит, перейдут ли они порог инобытия, или останутся в пространстве реального. Это – тайна. Художник отпустил их. Он выстрадал это право.
Петр Дик умер в 2002 г. в Ворпсведе – знаменитом немецком городке художников, в Центре современного искусства которого проходила выставка его произведений. Похоронен во Владимире.
Е.Боратынскому принадлежат формула: «И, как нашел я друга в поколенье,/ Читателя найду в потомстве я».
У Дика «в поколеньи» оказались верные друзья, ценители его таланта. Они многое сделали для диковского «зрителя в потомстве». Началась «жизнь после жизни»: выставочная активность, многочисленные публикации, присутствие в музейных собраниях. Если рассматривать корпус произведений Дика непредвзятым (то есть не обусловленным цеховыми, узко-направленческими, конъюнктурными и пр. обстоятельствами) взглядом, принадлежность художника к метафизическому направлению, одному из самых значительных в нашем искусстве, несомненно. И это констатация вовсе не означает некое «повышение в ранге». В чем - в чем, а в этом Дик и при жизни не нуждался: остался таким, каким он был. Это метафизическое направление приросло Диком. Просто наше видение искусства последней четверти прошедшего века стало объективнее. П.Дик нашел в нем свое место: большой художник, мятущаяся душа, удивительная способность «спорить с веком» и отстаивать свою правоту.
Библиография
*Цит. по: П.Дик. Непричесанные мысли. Машинопись. С.10. Архив К.Лимоновой.
** Из интервью с Л.Марц. Цит. по: Петр Дик. Художественное наследие. Изд. Журнала Наше Наследие. М.,2005,С.16.
*** Там же,С15.
**** Непричесанные мысли. С.12
***** Г.Чугунов. Спокойствие, труды и вдохновение... Ленинградский художник Павел Басманов. – «Искусство», 1973, №6. С.27.
****** Цит. по: Петр Дик. Указ.соч. С. 212.
******* Цит. по : «Современная российская графика: тематические аспекты. В сб.: Советская графика. Сб. научных трудов. ГРМ., 1991. С.130.
******** Л.Вострецова. Ценности бытия. В кн.: Петр Дик. Территория тишины. ГРМ.,PalaceEditions. 2012. С.24).
********* Г.Голенький. Вст. статья. В кн.: Петр Дик. Каталог Владимир,1988.
********** Цит. по кн.: Э.Кузнецов. Графиня покидает бал. М., 2010. С. 275).
*********** См. А.В.Бакушинский. Исследования и статьи. М., 1981, стр.78-89.
************ См.: В.Мизиано.«Тусовка» как социокультурный феномен».Художественная культура ХХ века: Сб. статей. - М.: ТИД "Русское слово-РС", 2002, с. 352-363.
************ Об этом подробнее см.: А.Боровский. Актуальный рисунок. В кат.: Актуальный рисунок. СПБ.,PalaceEditions. 2013.
************* Стенограмма обсуждения выставки П.Дика в ЛОСХе. Машинопись. Архив К.С.Лимоновой. С.52).
************** См. Л.Марц. Вст. ст. к кат. : Петр Дик. Художественное наследие. Изд. подготовлено к выставке в Русском музее. Изд. Готика. 1997. С. 6.
*************** См. В.Турчин.Есть такое искусство… В кн.: Петр Дик. Художественное наследие…С.193
*************** См.: Э.Кузнецов. Указ. соч.С. 275
***************** Л.Марц. Указ. Соч. С.6.
****************** Цит. по: Д.Сильвестер. Магритт. М., 2004.С. 128.
****************** Л.Вострецова. Указ. соч. С. 20001.
******************** Цит. по: М.Валяева. ХХ век. Завязка драмы. М., 2012, С. 277.
********************* Цит. по: А.Боровский. Эдуард Штейнберг. В кат.: Эдуард Штейнберг. ГРМ, Музей Людвига в Русском музее. Palace Editions, 2004
********************* Цит. по: Э.Кузнецов. Указ. соч. С. 275
** Из интервью с Л.Марц. Цит. по: Петр Дик. Художественное наследие. Изд. Журнала Наше Наследие. М.,2005,С.16.
*** Там же,С15.
**** Непричесанные мысли. С.12
***** Г.Чугунов. Спокойствие, труды и вдохновение... Ленинградский художник Павел Басманов. – «Искусство», 1973, №6. С.27.
****** Цит. по: Петр Дик. Указ.соч. С. 212.
******* Цит. по : «Современная российская графика: тематические аспекты. В сб.: Советская графика. Сб. научных трудов. ГРМ., 1991. С.130.
******** Л.Вострецова. Ценности бытия. В кн.: Петр Дик. Территория тишины. ГРМ.,PalaceEditions. 2012. С.24).
********* Г.Голенький. Вст. статья. В кн.: Петр Дик. Каталог Владимир,1988.
********** Цит. по кн.: Э.Кузнецов. Графиня покидает бал. М., 2010. С. 275).
*********** См. А.В.Бакушинский. Исследования и статьи. М., 1981, стр.78-89.
************ См.: В.Мизиано.«Тусовка» как социокультурный феномен».Художественная культура ХХ века: Сб. статей. - М.: ТИД "Русское слово-РС", 2002, с. 352-363.
************ Об этом подробнее см.: А.Боровский. Актуальный рисунок. В кат.: Актуальный рисунок. СПБ.,PalaceEditions. 2013.
************* Стенограмма обсуждения выставки П.Дика в ЛОСХе. Машинопись. Архив К.С.Лимоновой. С.52).
************** См. Л.Марц. Вст. ст. к кат. : Петр Дик. Художественное наследие. Изд. подготовлено к выставке в Русском музее. Изд. Готика. 1997. С. 6.
*************** См. В.Турчин.Есть такое искусство… В кн.: Петр Дик. Художественное наследие…С.193
*************** См.: Э.Кузнецов. Указ. соч.С. 275
***************** Л.Марц. Указ. Соч. С.6.
****************** Цит. по: Д.Сильвестер. Магритт. М., 2004.С. 128.
****************** Л.Вострецова. Указ. соч. С. 20001.
******************** Цит. по: М.Валяева. ХХ век. Завязка драмы. М., 2012, С. 277.
********************* Цит. по: А.Боровский. Эдуард Штейнберг. В кат.: Эдуард Штейнберг. ГРМ, Музей Людвига в Русском музее. Palace Editions, 2004
********************* Цит. по: Э.Кузнецов. Указ. соч. С. 275