Валерий Турчин,
доктор искусствоведения, профессор
доктор искусствоведения, профессор
Есть такое искусство…
“
…c невысказанной тревогой в застывших фигурах у края земли, с бездной черного, серого или оранжевого неба над ними, с утаенными сосудами и плодами, словно притаившимися в углу, с одинокой лодкой посреди водоема.
Художник, опираясь на только ему ведомые ощущения и представления, так создавал свой мир, ясно видимый лишь для него и показанный нам потом, в формах убедительных, запоминающихся и тревожных. Где нет движения, но и нет покоя. Все полно ожидания. Чего? Думается, что катастрофы. Она уже прошла где-то стороной и не затронула лишь этот край земли. Но предчувствия не обманывают, что-то грядет. И потому так ярки и одновременно мертвенны краски, скупы на жесты фигуры людей, затаились предметы. Их участь — ждать, может быть, бесконечно, но ждать, ждать. Того момента, когда уже не будет ничего…
Что-то грядет. И художник нас предупреждает.
Вот такое непростое искусство даровал нам Петр Дик. В его произведения всматриваешься и всматриваешься. Ждешь откровений и жаждешь их, и боишься их.
Ведь действительно первые впечатления не обманули нас. Пастель ложится на шероховатую основу наждачной бумаги, которая стирает и впитывает цветную пыль мелков так, что крупицы основы порой искрятся в массе цветных форм, придавая им характер ирреальный. Словно светится мгла. Тут мрак одухотворен, а свет покажется безжизненным. Именно потому художник любит представлять нам ночь. Время таинственных сближений, путаницы расстояний. Время шорохов. Время ожидания. Время прислушивания. Когда ничего не вызывает доверия. Когда вглядываешься во тьму, видишь силуэты, некие большие пятна в пространстве. Скорее угадываешь предмет, чем узнаешь его. Ощущения суммируются, складываются в некую картину мира, и достоверную и обманчивую одновременно.
Художник, опираясь на только ему ведомые ощущения и представления, так создавал свой мир, ясно видимый лишь для него и показанный нам потом, в формах убедительных, запоминающихся и тревожных. Где нет движения, но и нет покоя. Все полно ожидания. Чего? Думается, что катастрофы. Она уже прошла где-то стороной и не затронула лишь этот край земли. Но предчувствия не обманывают, что-то грядет. И потому так ярки и одновременно мертвенны краски, скупы на жесты фигуры людей, затаились предметы. Их участь — ждать, может быть, бесконечно, но ждать, ждать. Того момента, когда уже не будет ничего…
Что-то грядет. И художник нас предупреждает.
Вот такое непростое искусство даровал нам Петр Дик. В его произведения всматриваешься и всматриваешься. Ждешь откровений и жаждешь их, и боишься их.
Ведь действительно первые впечатления не обманули нас. Пастель ложится на шероховатую основу наждачной бумаги, которая стирает и впитывает цветную пыль мелков так, что крупицы основы порой искрятся в массе цветных форм, придавая им характер ирреальный. Словно светится мгла. Тут мрак одухотворен, а свет покажется безжизненным. Именно потому художник любит представлять нам ночь. Время таинственных сближений, путаницы расстояний. Время шорохов. Время ожидания. Время прислушивания. Когда ничего не вызывает доверия. Когда вглядываешься во тьму, видишь силуэты, некие большие пятна в пространстве. Скорее угадываешь предмет, чем узнаешь его. Ощущения суммируются, складываются в некую картину мира, и достоверную и обманчивую одновременно.
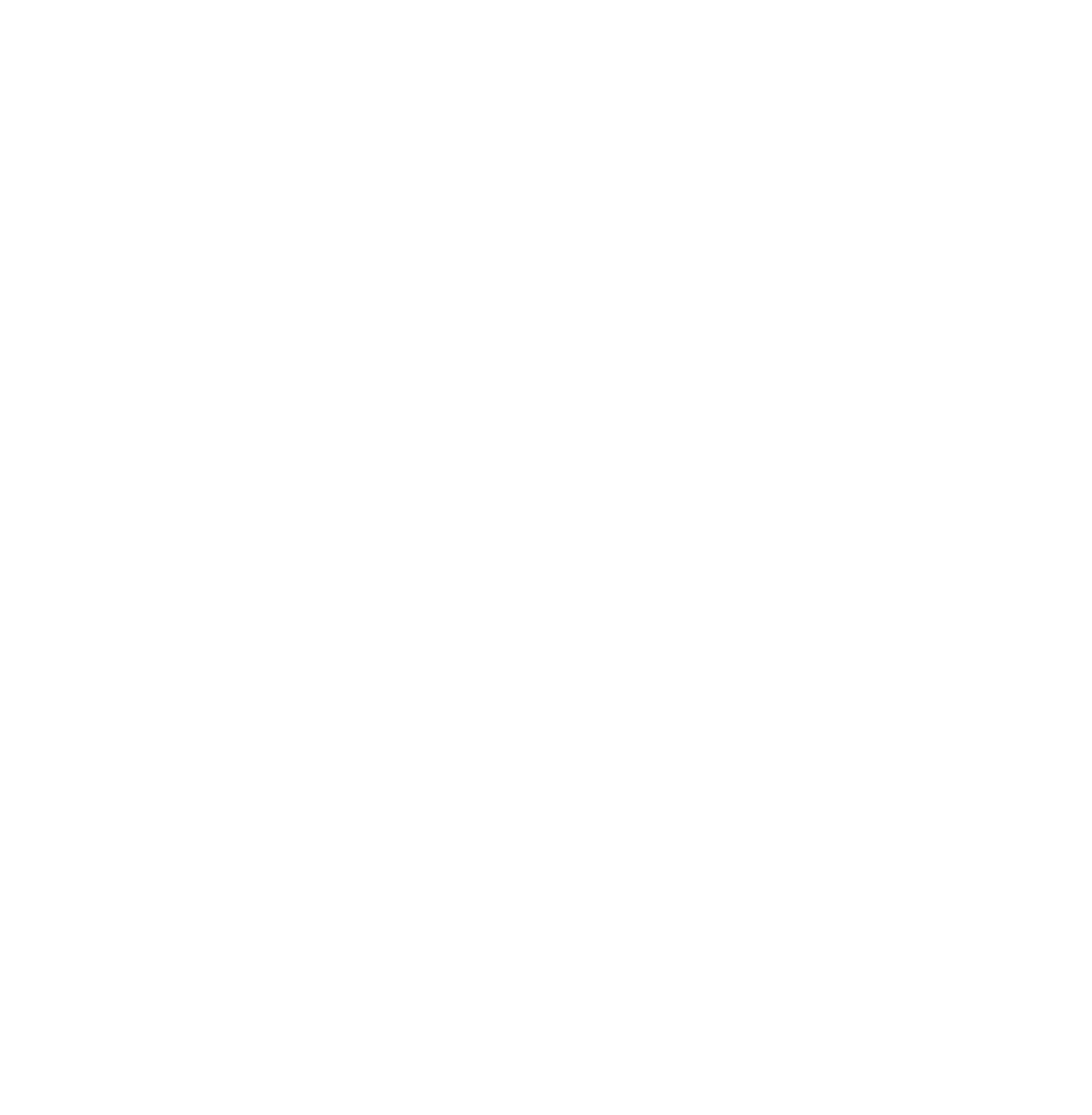
“
Как все прирожденные колористы (тут уж талант от Бога, ему не научишься!), Петр Дик любит темные тона, оживляемые всплесками приглушенного, хотя и внутренне яркого цвета. Кажется, что эти краски горят как-то изнутри, а нам виден лишь отсвет того огня, который «там» пылает, как пожар.
При этом черный — важный цвет для мастера, он оплот духовного в его мире цвета. И он предполагает наличие белого, с которым контрастирует. Предполагает также порой и наличие сероватых и коричневатых красочных гамм, которые словно находятся в промежутке между этими, такими определенными, черными и белыми тонами. У художника черный может быть заменен на серый, и белый на серый. Только один серый потемнее, другой посветлее («Причал», 1995). Так выстраиваются другие гармонии, монохромные. Они несут в себе ощущение печали. Создают эффект некой призрачности. Тишины. Безмолвия. Бездействия. В домах нет окон. То темницы неведомой нам жизни. Люди спрятались в них от ночи, от тоски, от боязни увидеть то, на что смотреть нельзя. Только луна фосфорическим и безжизненным холодным светом скупо освещает крыши зданий, лодки у причала, лодки на берегу. И кажется, даже черные и белые тюльпаны под серым небом.
Тут часто все серо или темно. Весна наступает тяжело, заставляя серые, пепельно-траурные тона обретать зеленоватые оттенки, и живые, и словно умирающие. Иное случается, когда в небе встает черное солнце, а все пространство заливается тревожным багрянцем. В этом краю есть весна, зима и, главное, какое-то бесконечное лето, которое и не лето даже, а некое состояние земли и воздуха, определенное настроение людей. Все замирает. Легче застыть, чем двигаться. Поэтому каждое движение дается с трудом. Поэтому каждая поза становится столь же значительной, как у фигур святых в иконах. Каждый жест многозначителен, почти ритуален. Большое значение в такой системе изображения приобретает силуэт, общее очертание фигур. На пустом пространстве вокруг них они смотрятся особенно выразительно.
Художник увидел значение перехода из пространства в пространство, как символического шага из одного в другое (литография «У порога», 1979; пастель «Переход. Вариант первый», 1993; пастель «Вход», 1998). Из мира более или менее знакомого в мир непознанный, таинственный, тревожный, где все вроде бы и так, но и не совсем, и там царствует иной дух, иное настроение, иная атмосфера. Там нет воздуха, которым можно легко дышать. Там растут диковинные цветы. Скупая Флора создает не сад, пышное царство свое, но выращивает одинокие растения, одинокие плоды. Она скорее тут не царица, а некий селекционер, отбирающий «экзоты», которые только и могут произрастать на этой странной почве, под этим странным небом, где нет туч, нет облаков, нет дождя (хотя люди, припасая зонтики, его ждут, так как тут всего ждут, только ждут, вся жизнь превращена в ожидание). Цветы растут под серым небом, а плоды уносят в темный угол и там сберегают их.
Здесь все распределено по узким ячейкам пространства. А самого этого пространства немного. Здешние края куда как скупы на выделение территории для жизни. Фигурам порой как-то тесновато в такой среде, не имеющей четких границ и все же крайне ограниченной. Такое пространство для них хотя и «свое», но не обжитое. Ясно, что люди на подобной «сцене жизни» играют некие роли. Они актеры в бесконечной пантомиме, имитирующей жизнь, позируют, но не живут полноценной жизнью. Больше мечтают о ней, посему столь задумчивы, погружены в себя, застыли. Нужна боль, чтобы они очнулись, и когда болит рука, хочется кричать (пастель «Боль», 2002).
А так они ждут. Они ждут, сидя на стульях или на скамейках, поодиночке или парами, обняв собаку или прогуливаясь по берегу, присев на пляже в лунную ночь. Ждут ночью на остановке. Процессией, в ожидании чуда, движутся к храму. На берегу застыли лодки — символ паломничества в другие края. Чисто механически люди в ожидании перемен заняты своим нехитрым хозяйством. Что-то делают в поле, на котором ничего не растет и, знаем, не будет расти. Убирают помещения, в которых не видно сора. Вешают сушиться белье — постиранное, оно не отличается от надетого на тело. Их дела — понарошку, главное понять, что они ждут перемен. Поэтому они словно ведут бесконечный разговор без слов, смотрят друг на друга, сбиваются в толпу, куда-то идут (пастель «Идущие», 2002). Исход — единственное возможное решение в этой ситуации, которая самой судьбой создана на этой земле, историю которой, как великий летописец и мифотворец одновременно, создает Петр Дик.
При этом черный — важный цвет для мастера, он оплот духовного в его мире цвета. И он предполагает наличие белого, с которым контрастирует. Предполагает также порой и наличие сероватых и коричневатых красочных гамм, которые словно находятся в промежутке между этими, такими определенными, черными и белыми тонами. У художника черный может быть заменен на серый, и белый на серый. Только один серый потемнее, другой посветлее («Причал», 1995). Так выстраиваются другие гармонии, монохромные. Они несут в себе ощущение печали. Создают эффект некой призрачности. Тишины. Безмолвия. Бездействия. В домах нет окон. То темницы неведомой нам жизни. Люди спрятались в них от ночи, от тоски, от боязни увидеть то, на что смотреть нельзя. Только луна фосфорическим и безжизненным холодным светом скупо освещает крыши зданий, лодки у причала, лодки на берегу. И кажется, даже черные и белые тюльпаны под серым небом.
Тут часто все серо или темно. Весна наступает тяжело, заставляя серые, пепельно-траурные тона обретать зеленоватые оттенки, и живые, и словно умирающие. Иное случается, когда в небе встает черное солнце, а все пространство заливается тревожным багрянцем. В этом краю есть весна, зима и, главное, какое-то бесконечное лето, которое и не лето даже, а некое состояние земли и воздуха, определенное настроение людей. Все замирает. Легче застыть, чем двигаться. Поэтому каждое движение дается с трудом. Поэтому каждая поза становится столь же значительной, как у фигур святых в иконах. Каждый жест многозначителен, почти ритуален. Большое значение в такой системе изображения приобретает силуэт, общее очертание фигур. На пустом пространстве вокруг них они смотрятся особенно выразительно.
Художник увидел значение перехода из пространства в пространство, как символического шага из одного в другое (литография «У порога», 1979; пастель «Переход. Вариант первый», 1993; пастель «Вход», 1998). Из мира более или менее знакомого в мир непознанный, таинственный, тревожный, где все вроде бы и так, но и не совсем, и там царствует иной дух, иное настроение, иная атмосфера. Там нет воздуха, которым можно легко дышать. Там растут диковинные цветы. Скупая Флора создает не сад, пышное царство свое, но выращивает одинокие растения, одинокие плоды. Она скорее тут не царица, а некий селекционер, отбирающий «экзоты», которые только и могут произрастать на этой странной почве, под этим странным небом, где нет туч, нет облаков, нет дождя (хотя люди, припасая зонтики, его ждут, так как тут всего ждут, только ждут, вся жизнь превращена в ожидание). Цветы растут под серым небом, а плоды уносят в темный угол и там сберегают их.
Здесь все распределено по узким ячейкам пространства. А самого этого пространства немного. Здешние края куда как скупы на выделение территории для жизни. Фигурам порой как-то тесновато в такой среде, не имеющей четких границ и все же крайне ограниченной. Такое пространство для них хотя и «свое», но не обжитое. Ясно, что люди на подобной «сцене жизни» играют некие роли. Они актеры в бесконечной пантомиме, имитирующей жизнь, позируют, но не живут полноценной жизнью. Больше мечтают о ней, посему столь задумчивы, погружены в себя, застыли. Нужна боль, чтобы они очнулись, и когда болит рука, хочется кричать (пастель «Боль», 2002).
А так они ждут. Они ждут, сидя на стульях или на скамейках, поодиночке или парами, обняв собаку или прогуливаясь по берегу, присев на пляже в лунную ночь. Ждут ночью на остановке. Процессией, в ожидании чуда, движутся к храму. На берегу застыли лодки — символ паломничества в другие края. Чисто механически люди в ожидании перемен заняты своим нехитрым хозяйством. Что-то делают в поле, на котором ничего не растет и, знаем, не будет расти. Убирают помещения, в которых не видно сора. Вешают сушиться белье — постиранное, оно не отличается от надетого на тело. Их дела — понарошку, главное понять, что они ждут перемен. Поэтому они словно ведут бесконечный разговор без слов, смотрят друг на друга, сбиваются в толпу, куда-то идут (пастель «Идущие», 2002). Исход — единственное возможное решение в этой ситуации, которая самой судьбой создана на этой земле, историю которой, как великий летописец и мифотворец одновременно, создает Петр Дик.
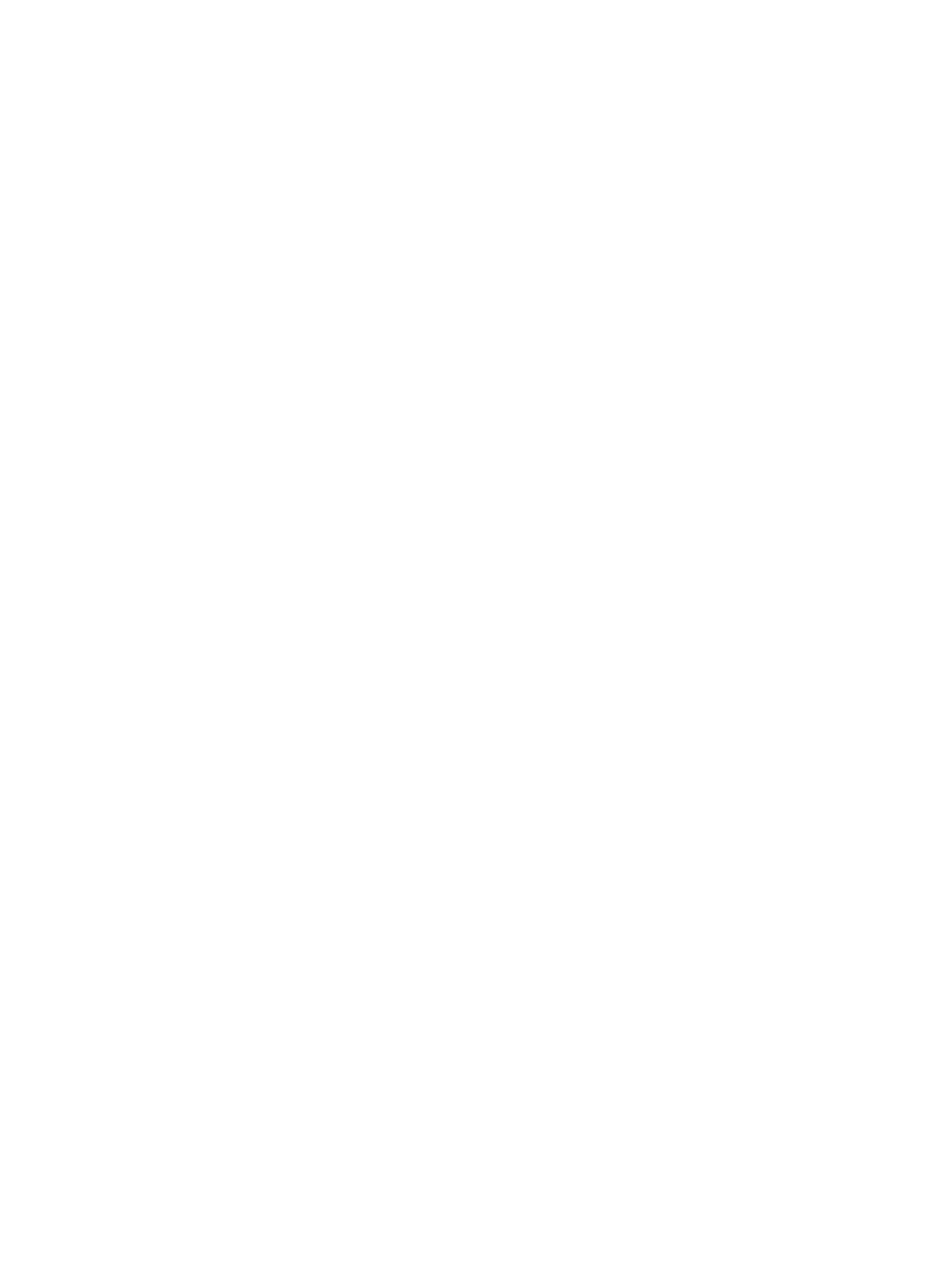
Алексей Рюмин, 2003
“
Чем же не угодила этим героям их страна, наполовину реальная, наполовину придуманная? Возможно, тем, что слишком мала, и при этом пустынна. Некий лоскуток малого пространства посреди огромного. Они толкутся на своем «пятачке», зная, что есть и другой, огромный, мир. Попасть в него — их мечта, хотя, возможно, беды грозят им именно оттуда. Но тут не жизнь, тут погибель прозябания, бессмыслицы, абсурда, а там что-то иное, неизведанное, манящее, хотя и пугающее. Жизнь здесь подготовка к исходу, великому переселению. Характерно, что малый народец Петра Дика живет на краю своей Вселенной, а раз на краю, то отступать некуда. Они сами подошли (вернее, их оттеснили) к этой черте, к последней границе, за которой — бездна моря и неба. У них наготове лодки, но они не поплывут в чужие края, которых на самом деле за горизонтом нет. Там нет ничего, ибо там бездна. Все эти люди живут у края бездны, в чем их трагедия. И они сознают это, стараясь заниматься пустяками, а лучше всего музыкой.
Музыка словно специально создана для них, безмолвствующих, ибо слова застывают в густой атмосфере, не становясь слышимыми. Только поющие голоса и голоса музыкальных инструментов могут миновать эти короткие расстояния, напомнить разобщенным, что они в конечном итоге одна семья, один род, что им надо готовиться к великому исходу, вместе, а не поодиночке. Спевка в храме, уроки на пианино, игра на различных инструментах — некая репетиция будущего хорового пения, будущей молитвы, с которой процессия, оставляя свои безоконные дома и черные лодки на берегу, тронется в путь.
Однако становится ясно, что им не уйти, что их мечта всегда будет мечтой. Достаточно взглянуть на то пространство, которым они владеют, чтобы понять это как некий неоспоримый факт. У того пространства не может быть реальной глубины, ибо у бездны нет измерений, ни пространственных, ни временных. Возможность хождения вглубь для этого народа, поселившегося у края бездны, не существует. Само «их» пространство структурно организовано таким образом, что в нем вместо глубины дана иная развертка перспективных зон. Или это отдельная ячейка, неглубокая, замкнутая, наподобие некого сейфа, или система параллельных друг другу полос. Если в сейфооб-разном пространстве все застывает, то по поло-сатой череде зон можно двигаться, однако не переходя из одной в другую, ибо последние из них — символы неба и воды. Можно передвигаться мимо них. Идти не поперек, а только вдоль, — таков закон. Так бредут процессии по берегу. И путь их в таком случае бесконечен, а надежда избежать предназначенного иллюзорна. Как и все, впрочем, в этом мире, где плотность вещества — также кажимость. Где царствует система отра-жений, не дающих эффекта глубины. Мотивы отражения могут показаться излюбленными для художника, но это не только мотивы, тут все отражения ( а отражения не имеют глубины). И малые дела героев неведомой страны также отражают какие-то дела иных героев и иных стран.
Показанное Петром Диком является художественной моделью Бытия, неким целым, пропущенным через магический кристалл вдохновения и откровения. И сами его работы следует рассматривать, чтобы понять их смысл, как некие притчи о судьбе человеческой.
Небольшие по размерам, они полны такой внут-ренней значительности, что с большой эмоциональной силой завораживают зрителя. Он покорен, потрясен. Он проникается тревогой за судьбу тех, кто представлен в трудах и заботах своих, в поисках выхода из тупиковой и тра-гической ситуации, повторяющейся как ночной кошмар. Как цветные сны, которые запоминаются надолго. Зритель проникается этими образами, так как они в чем-то близки ему, его тревогам, его чувствам и размышлениям. Метафоры Дика ему понятны. Они современны, они повествуют об одиночестве, когда весь мир — пустыня, а видимое фантомно и призрачно. Мастер чувст-вовал определенную «двойственность сочетания реального и ирреального», как он сам говорил.
Ему необходимо было создавать определенные пространственно-красочные формулы. Цельные. Так, чтобы они врезались в память, не забывались. Пользуясь методом «вычитания случайностей», Петр Дик пришел к созданию особого художественного языка. Именно того, о каком шла речь. Сама мысль о нахождении героев и объекта изображения у последней черты, на краю, создавала ситуацию пограничности между реальным и нереальным. И надо понимать: то, что видимо, то освещено тем светом, который «светит» из другого мира. Поэтому и колорит художника — особенный, он построен на красках, будто освещенных изнутри. Так светит свеча под темным колпаком. Так горят ночники. Так виден костер вдалеке, в сумерках, в тумане.
Так как пространства далекого и близкого пограничны, и — вообще — находятся рядом, то от пустого неба и моря (море ли это на самом деле, или Океан жизни?) веет вечностью. Поэтому и сиюминутное само собой испаряется, ход времен тормозится и более того, как в каждом мифе, циклически повторяется. Герои произведений Петра Дика будут вновь и вновь горевать, застыв в раздумьях, искать, как слепые, выход из сложившейся ситуации. Часто эти герои стоят к зрителю спиной, но лица их обращены к Вечности. Они поворачиваются лицом к зрителю, когда что-то хотят ему сказать или прокричать. Как в знаменитом «Крике» Эдварда Мунка, их душевная боль превращена в физическую. Все же остальное, кроме занятий музыкой, кроме созерцания света луны и огонька тусклой лампы под потолком — суета сует.
Музыка словно специально создана для них, безмолвствующих, ибо слова застывают в густой атмосфере, не становясь слышимыми. Только поющие голоса и голоса музыкальных инструментов могут миновать эти короткие расстояния, напомнить разобщенным, что они в конечном итоге одна семья, один род, что им надо готовиться к великому исходу, вместе, а не поодиночке. Спевка в храме, уроки на пианино, игра на различных инструментах — некая репетиция будущего хорового пения, будущей молитвы, с которой процессия, оставляя свои безоконные дома и черные лодки на берегу, тронется в путь.
Однако становится ясно, что им не уйти, что их мечта всегда будет мечтой. Достаточно взглянуть на то пространство, которым они владеют, чтобы понять это как некий неоспоримый факт. У того пространства не может быть реальной глубины, ибо у бездны нет измерений, ни пространственных, ни временных. Возможность хождения вглубь для этого народа, поселившегося у края бездны, не существует. Само «их» пространство структурно организовано таким образом, что в нем вместо глубины дана иная развертка перспективных зон. Или это отдельная ячейка, неглубокая, замкнутая, наподобие некого сейфа, или система параллельных друг другу полос. Если в сейфооб-разном пространстве все застывает, то по поло-сатой череде зон можно двигаться, однако не переходя из одной в другую, ибо последние из них — символы неба и воды. Можно передвигаться мимо них. Идти не поперек, а только вдоль, — таков закон. Так бредут процессии по берегу. И путь их в таком случае бесконечен, а надежда избежать предназначенного иллюзорна. Как и все, впрочем, в этом мире, где плотность вещества — также кажимость. Где царствует система отра-жений, не дающих эффекта глубины. Мотивы отражения могут показаться излюбленными для художника, но это не только мотивы, тут все отражения ( а отражения не имеют глубины). И малые дела героев неведомой страны также отражают какие-то дела иных героев и иных стран.
Показанное Петром Диком является художественной моделью Бытия, неким целым, пропущенным через магический кристалл вдохновения и откровения. И сами его работы следует рассматривать, чтобы понять их смысл, как некие притчи о судьбе человеческой.
Небольшие по размерам, они полны такой внут-ренней значительности, что с большой эмоциональной силой завораживают зрителя. Он покорен, потрясен. Он проникается тревогой за судьбу тех, кто представлен в трудах и заботах своих, в поисках выхода из тупиковой и тра-гической ситуации, повторяющейся как ночной кошмар. Как цветные сны, которые запоминаются надолго. Зритель проникается этими образами, так как они в чем-то близки ему, его тревогам, его чувствам и размышлениям. Метафоры Дика ему понятны. Они современны, они повествуют об одиночестве, когда весь мир — пустыня, а видимое фантомно и призрачно. Мастер чувст-вовал определенную «двойственность сочетания реального и ирреального», как он сам говорил.
Ему необходимо было создавать определенные пространственно-красочные формулы. Цельные. Так, чтобы они врезались в память, не забывались. Пользуясь методом «вычитания случайностей», Петр Дик пришел к созданию особого художественного языка. Именно того, о каком шла речь. Сама мысль о нахождении героев и объекта изображения у последней черты, на краю, создавала ситуацию пограничности между реальным и нереальным. И надо понимать: то, что видимо, то освещено тем светом, который «светит» из другого мира. Поэтому и колорит художника — особенный, он построен на красках, будто освещенных изнутри. Так светит свеча под темным колпаком. Так горят ночники. Так виден костер вдалеке, в сумерках, в тумане.
Так как пространства далекого и близкого пограничны, и — вообще — находятся рядом, то от пустого неба и моря (море ли это на самом деле, или Океан жизни?) веет вечностью. Поэтому и сиюминутное само собой испаряется, ход времен тормозится и более того, как в каждом мифе, циклически повторяется. Герои произведений Петра Дика будут вновь и вновь горевать, застыв в раздумьях, искать, как слепые, выход из сложившейся ситуации. Часто эти герои стоят к зрителю спиной, но лица их обращены к Вечности. Они поворачиваются лицом к зрителю, когда что-то хотят ему сказать или прокричать. Как в знаменитом «Крике» Эдварда Мунка, их душевная боль превращена в физическую. Все же остальное, кроме занятий музыкой, кроме созерцания света луны и огонька тусклой лампы под потолком — суета сует.
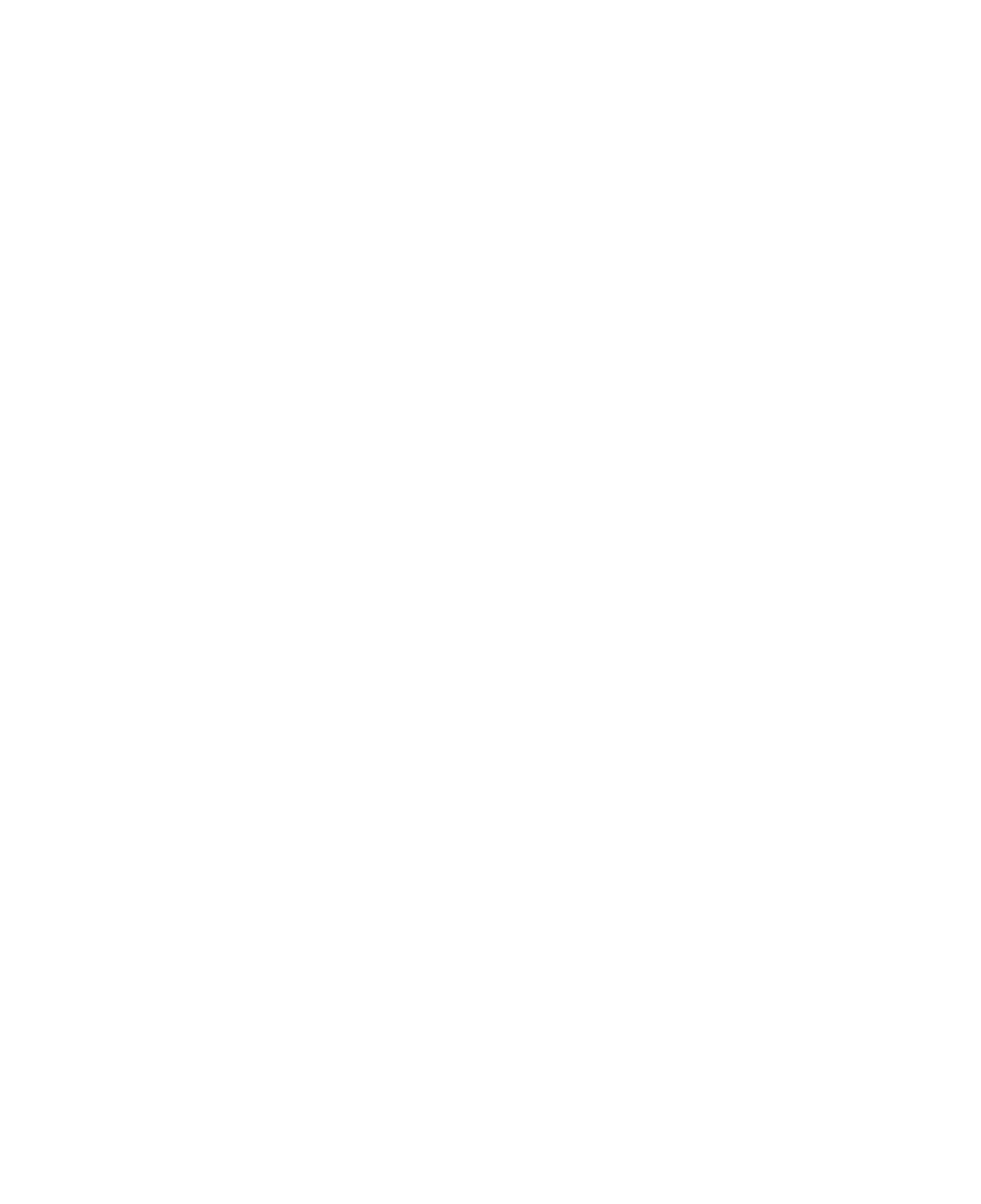
“
Вывод значительный — не правда ли?
Собственно, и работы самого мастера — это некие колодцы в глубину пространств и времени, а следовательно, бесконечности. Их сумрачный колорит — свет Бездны. Это она смотрит на зрителя, а не он на нее.
И этот колорит, единый и цельный, такой особый, по-своему красив, по-своему великолепен. Собственно, поверхность работ — некий экран, где краски мира встречаются с красками Иного.
Сама знаковость стиля способствует созданию определенной торжественной и сакральной атмосферы даже тогда, когда ничего «особенного» не происходит. Ведь это «особенное» заключено в самой возможности показать обыденное, но наполненное некой значительной таинственностью. Мастер выделяет отдельные элементы-знаки, выстраивая их в определенном порядке, структурно, продуманно. Как в каждой структуре, тут важны не только сами элементы, но и интервалы между ними, паузы — фигуры молчания. Они-то и придают всему строю произве-дений отмеченную уже торжественность, ритуальность.
Художник приобщает нас к мысли, что за простым всегда стоит сложное, за формой таятся неведомые энергии, одно проникает в другое. Структура работ такова, что уже сама по себе намекает на проникновение в суть явлений, за внешним угадывая внутреннее и сокровенное. В этом Петр Дик идет по дороге большого русского искусства, по дороге иконописи, Врубеля, Малевича (о его работах 1920-х годов тут есть некоторые вольные напоминания). Он — из числа духовидцев, пророков, учителей.
В некотором роде это неоэкспрессионизм, если воспользоваться языком современных историков искусства. Он прекрасно соответствует художественным исканиям рубежа веков, когда все ломается, все хаотично, но хочется увидеть и основы Мироздания. Художник упорно шел к таким решениям, стремясь обрести истину. Ему понадобилось понять поэзию степей Алтая, позаниматься графикой и скульптурой, многое передумать и пережить, прочувствовать и перестрадать (горюя не о себе, но о других). Искусство сугубо личное, оно, как у Ван Гога, отвечает желанию познать действительность полнее и глубже, а следовательно, трагично. Свои знания о действительности Петр Дик перелагает в красочные и пространственные эквиваленты.
Он лаконичен, этот мастер.
Суров, поэтичен, мудр.
Он — мастер. А его искусство…
Собственно, и работы самого мастера — это некие колодцы в глубину пространств и времени, а следовательно, бесконечности. Их сумрачный колорит — свет Бездны. Это она смотрит на зрителя, а не он на нее.
И этот колорит, единый и цельный, такой особый, по-своему красив, по-своему великолепен. Собственно, поверхность работ — некий экран, где краски мира встречаются с красками Иного.
Сама знаковость стиля способствует созданию определенной торжественной и сакральной атмосферы даже тогда, когда ничего «особенного» не происходит. Ведь это «особенное» заключено в самой возможности показать обыденное, но наполненное некой значительной таинственностью. Мастер выделяет отдельные элементы-знаки, выстраивая их в определенном порядке, структурно, продуманно. Как в каждой структуре, тут важны не только сами элементы, но и интервалы между ними, паузы — фигуры молчания. Они-то и придают всему строю произве-дений отмеченную уже торжественность, ритуальность.
Художник приобщает нас к мысли, что за простым всегда стоит сложное, за формой таятся неведомые энергии, одно проникает в другое. Структура работ такова, что уже сама по себе намекает на проникновение в суть явлений, за внешним угадывая внутреннее и сокровенное. В этом Петр Дик идет по дороге большого русского искусства, по дороге иконописи, Врубеля, Малевича (о его работах 1920-х годов тут есть некоторые вольные напоминания). Он — из числа духовидцев, пророков, учителей.
В некотором роде это неоэкспрессионизм, если воспользоваться языком современных историков искусства. Он прекрасно соответствует художественным исканиям рубежа веков, когда все ломается, все хаотично, но хочется увидеть и основы Мироздания. Художник упорно шел к таким решениям, стремясь обрести истину. Ему понадобилось понять поэзию степей Алтая, позаниматься графикой и скульптурой, многое передумать и пережить, прочувствовать и перестрадать (горюя не о себе, но о других). Искусство сугубо личное, оно, как у Ван Гога, отвечает желанию познать действительность полнее и глубже, а следовательно, трагично. Свои знания о действительности Петр Дик перелагает в красочные и пространственные эквиваленты.
Он лаконичен, этот мастер.
Суров, поэтичен, мудр.
Он — мастер. А его искусство…