Александр Боровский
Заведующий отделом новейших течений ГРМ
Заведующий отделом новейших течений ГРМ
Возвращение к Дику
“
Петра Дика, как и много лет назад, показывают как графика, и говорят о нем как о графике. Ничего худого в этом нет: лишний повод вспомнить о графической культуре, о «негромкой» (слово из 1970-х) графической интонации и пр. Музеи так и вовсе настроены на эту камерную волну по психологическим (громкое и масштабное по старой памяти ассоциируется с официальным, в сегодняшнем контексте – мэйнстримным, а «негромкость» - с внутренней независимостью и неангажированостью), и материальным (масштабные, мощно резонирующие вовне живописные вещи они нынче закупать не в состоянии) причинам.
Всё бы так, творчество Дика вполне отвечает традиционным «культурно-графическим» представлениям. И я готов был, вспоминая свои впечатления о давнишнем знакомстве с искусством художника, подготовить текст, артикулирующий темы уходящей графической культуры: эмоциональное богатство, избирательность видения, интонационная нюансировка. Но, пересматривая вновь работы мастера, я вдруг понял: графический контекст меня уже не удовлетворяет, сковывает, в этом русле неизбежны повторения и общие места. Наследие Дика содержит какой-то иной, «надграфический» мессадж: тревожный, биографичный, экзистенциальный. Эта графика не про графику: про способы обобщения формы, переходы тональностей, организацию пространства и пр. То есть, конечно, и про это тоже. Но главным образом эта графика – про человеческую жизнь. «Граждане, послушайте меня…», - что-то в ней недоуслышано.
Всё бы так, творчество Дика вполне отвечает традиционным «культурно-графическим» представлениям. И я готов был, вспоминая свои впечатления о давнишнем знакомстве с искусством художника, подготовить текст, артикулирующий темы уходящей графической культуры: эмоциональное богатство, избирательность видения, интонационная нюансировка. Но, пересматривая вновь работы мастера, я вдруг понял: графический контекст меня уже не удовлетворяет, сковывает, в этом русле неизбежны повторения и общие места. Наследие Дика содержит какой-то иной, «надграфический» мессадж: тревожный, биографичный, экзистенциальный. Эта графика не про графику: про способы обобщения формы, переходы тональностей, организацию пространства и пр. То есть, конечно, и про это тоже. Но главным образом эта графика – про человеческую жизнь. «Граждане, послушайте меня…», - что-то в ней недоуслышано.
Наследие Дика содержит какой-то иной, «надграфический» мессадж: тревожный, биографичный, экзистенциальный. Эта графика не про графику: про способы обобщения формы, переходы тональностей, организацию пространства и пр. То есть, конечно, и про это тоже. Но главным образом эта графика – про человеческую жизнь...
“
Вообще-то, у нас эта сосредоточенность на графической, живописной и пр. профессиональных культурах пошла не от хорошей жизни. В советское время мастера изобразительного искусства рекрутировались в творческие секции Союза художников по специализации и материалу. В этом дроблении был определенный производственный резон, но главным был скрытый идеологический смысл. Художники отвлекались от проблематики искусства в целом и погружались в цеховые проблемы. Прежде всего, это сказывалось на понимании творческого масштаба художника. Лучший из монументалистов? Из графиков? Цеховая рутина сразу же сбивала масштабную шкалу: в самом деле, к примеру, Д.Митрохин с его рисунками в пол-ладони, - как его сравнивать, скажем, с В.Мухиной с её «Рабочим и колхозницей»? Попытки объективизации («Помилуйте, не в физическом же масштабе, не в материале, тем более, дело!») сразу же гасились официозом: «Извините, товарищи, мы не отрицаем значение имярек для нашей живописной (графической, прикладной и пр.) культуры, но есть всё-таки масштабность задач». Масштаб назначался свыше: «Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер. Не Гоголь, так себе, писатель-гоголек» (О. Мандельштам). Разбивка на секции и манипулирование масштабом на деле реализовывали старый государственный принцип: разделяй и властвуй. Облегчали идеологический контроль и над Митрохиным, и над Мухиной, как и над тысячами их сотоварищей. Всё это вызывало ответную реакцию. – «Вы нас ставите в зависимость, почти крепостную, от цеха, от техники и материала, так мы добьёмся такой глубины "узкой" профессионализации, степени каковой вы и не поймёте». И действительно, сосредоточенность на профессиональных нюансах стала приобретать эзотерический характер. В позднесоветское время возникает новый источник аберраций: оппозиция «официальное-неофициальное». Какая там реальная значимость – наших бьют! Как это ни странно, рудименты цехового деления остались в художественном сознании и по сегодняшний день. Прежде всего – на музейном уровне, об этом уже говорилось выше. В ещё большей степени это касается рыночно-галерейного уровня. Традиции «папочного», графического собирательства почти прервались. Нынешний покупатель, даже вполне продвинутый, предпочитает всё-таки «вещь» - произведение в его материальной весомости и солидности (картину, скульптуру, объект), а не эфемерию бумаги. Тому есть немало причин, в том числе относящихся к социальной базе собирательства: пока ещё у нас в стране создает собственные коллекции малая, зато обладающая неограниченными материальными возможностями часть элиты. До диверсификации коллекционирования у неё руки ещё не доходят: хочется захватить главные, событийные, наиболее репрезентативные вещи, а они, опять же в соответствии с описанной выше идеологической, а теперь – в буквальном смысле ценностно-образующей традицией, - ассоциируются с «вечными» материалами.
Тем не менее, всё это идёт из прошлого. Contemporary art, за исключением совсем уж функциональной специализации (иллюстратор, графический дизайнер, автор комиксов и пр.), строго говоря, выводящей эти профессии из дискурса, - почти не знает цеховых разграничений. Есть просто художник, для реализации своих интенций выбирающий сегодня традиционные графические техники, завтра – инсталляции, послезавтра – что-нибудь ещё. Чисто биографически Дик принадлежит, конечно же, своему времени. Но это не означает, что способ рассмотрения его искусства должен носить ретроспективный, в нашем случае – так сказать, графикоцентричный характер.
Потому что, повторюсь, что-то в отношении его творчества недовысказано. При том, что анализ, касающийся графического формообразования, был проведен серьёзный. Значит, что-то он уже не зачерпывает. Чрезвычайно поучительно вернуться к обсуждению выставки П. Дика, которая состоялась в ЛОСХе, кажется, в 1985. Выступали лучшие питерские графики старого поколения. «Верная мера обобщения», «внутренняя геометрия», «любовное, бережное отношение к пространству». Язык описания 1970-1980-х, как много за ним стоит! И, действительно, выстраданная культура понимания процессов формообразования. И общее нежелание анализировать мироощущенческие установки в их связях с хоть какой-то конкретикой, биографической и социально-исторической. Откуда это пошло? Наверное, вкус к социальному, сейчас бы сказали, культурно-антропологическому анализу, пусть бы и на языке описания своего времени, был отбит именно этим временем. Потому что право на социальность было узурпировано официозом. Своего рода профессиональным хорошим тоном было, видимо, вовремя остановиться. Жизненность, психологизм, культура повседневности, - всё это было не из их словаря. Это ассоциировалось с идеологизмом или, не многим лучше, журнализмом. Дать заподозрить себя в подобном – ни один уважающий себя художник не мог себе позволить! Между тем работы Дика буквально требовали «продолжения» формальных интерпретаций – их экспансии на сферы житейского и бытийного, сакрального. Потому что, как мне представляется, формообразование у Дика дышит биографизмом.
Петр Дик был русский немец. Это много значило для середины века. Да и позднее отзывалось. Не педалируя, по советской привычке, «национальный вопрос», вспомним хотя бы музыку: Рихтер, Шнитке – великие, при этом отчетливо драматические судьбы.
Родившийся на Алтае, куда повально выселялись, по сталинскому указу, этнические немцы, лишившийся отца и воспитывавшийся без матери, Дик переживал глубокую психологическую травму, которую смог отрефлексировать много позднее. В детском сознании навсегда сохранился конфликт бескрайней и привольной степной алтайской природы и системы запретов и лишений. Картина мира с детства воспринималась как конфликтная. Идущее от природы и идущее от человеческих установлений трагически не совпадало. Последующая жизнь не сняла базисного конфликта – думаю, через всю биографию художника прошла тема эскапизма, поиска укрытия, выхода, исхода. Жизнь его прошла укромно – в провинциальном Владимире, в выездах в Москву, в общении с узким кругом художников-единомышленников. Похоже, и графика была интуитивно выбрана им, получившим, кажется, образование прикладника, в силу своей «негромкости». «Тихая графика» - этот термин Ю. Герчука вполне подходил ему в буквальном смысле, биографически. В течение многих лет Дик являл собой образец опытного, достаточно успешного провинциального графика, которого с удовольствием (не всё же Москва да Ленинград) брали на Республиканские и Всесоюзные графические выставки. Взлет творчества П. Дика приходится на последние десять-пятнадцать лет его жизни. Время менялось, пошли персональные выставки, звания, но главное, появилась возможность ездить и выставляться в Германии; психологическая установка на укромность, ускользание, необходимость сглаживания поведенческого рисунка как-то рассосалась.
Тем не менее, всё это идёт из прошлого. Contemporary art, за исключением совсем уж функциональной специализации (иллюстратор, графический дизайнер, автор комиксов и пр.), строго говоря, выводящей эти профессии из дискурса, - почти не знает цеховых разграничений. Есть просто художник, для реализации своих интенций выбирающий сегодня традиционные графические техники, завтра – инсталляции, послезавтра – что-нибудь ещё. Чисто биографически Дик принадлежит, конечно же, своему времени. Но это не означает, что способ рассмотрения его искусства должен носить ретроспективный, в нашем случае – так сказать, графикоцентричный характер.
Потому что, повторюсь, что-то в отношении его творчества недовысказано. При том, что анализ, касающийся графического формообразования, был проведен серьёзный. Значит, что-то он уже не зачерпывает. Чрезвычайно поучительно вернуться к обсуждению выставки П. Дика, которая состоялась в ЛОСХе, кажется, в 1985. Выступали лучшие питерские графики старого поколения. «Верная мера обобщения», «внутренняя геометрия», «любовное, бережное отношение к пространству». Язык описания 1970-1980-х, как много за ним стоит! И, действительно, выстраданная культура понимания процессов формообразования. И общее нежелание анализировать мироощущенческие установки в их связях с хоть какой-то конкретикой, биографической и социально-исторической. Откуда это пошло? Наверное, вкус к социальному, сейчас бы сказали, культурно-антропологическому анализу, пусть бы и на языке описания своего времени, был отбит именно этим временем. Потому что право на социальность было узурпировано официозом. Своего рода профессиональным хорошим тоном было, видимо, вовремя остановиться. Жизненность, психологизм, культура повседневности, - всё это было не из их словаря. Это ассоциировалось с идеологизмом или, не многим лучше, журнализмом. Дать заподозрить себя в подобном – ни один уважающий себя художник не мог себе позволить! Между тем работы Дика буквально требовали «продолжения» формальных интерпретаций – их экспансии на сферы житейского и бытийного, сакрального. Потому что, как мне представляется, формообразование у Дика дышит биографизмом.
Петр Дик был русский немец. Это много значило для середины века. Да и позднее отзывалось. Не педалируя, по советской привычке, «национальный вопрос», вспомним хотя бы музыку: Рихтер, Шнитке – великие, при этом отчетливо драматические судьбы.
Родившийся на Алтае, куда повально выселялись, по сталинскому указу, этнические немцы, лишившийся отца и воспитывавшийся без матери, Дик переживал глубокую психологическую травму, которую смог отрефлексировать много позднее. В детском сознании навсегда сохранился конфликт бескрайней и привольной степной алтайской природы и системы запретов и лишений. Картина мира с детства воспринималась как конфликтная. Идущее от природы и идущее от человеческих установлений трагически не совпадало. Последующая жизнь не сняла базисного конфликта – думаю, через всю биографию художника прошла тема эскапизма, поиска укрытия, выхода, исхода. Жизнь его прошла укромно – в провинциальном Владимире, в выездах в Москву, в общении с узким кругом художников-единомышленников. Похоже, и графика была интуитивно выбрана им, получившим, кажется, образование прикладника, в силу своей «негромкости». «Тихая графика» - этот термин Ю. Герчука вполне подходил ему в буквальном смысле, биографически. В течение многих лет Дик являл собой образец опытного, достаточно успешного провинциального графика, которого с удовольствием (не всё же Москва да Ленинград) брали на Республиканские и Всесоюзные графические выставки. Взлет творчества П. Дика приходится на последние десять-пятнадцать лет его жизни. Время менялось, пошли персональные выставки, звания, но главное, появилась возможность ездить и выставляться в Германии; психологическая установка на укромность, ускользание, необходимость сглаживания поведенческого рисунка как-то рассосалась.
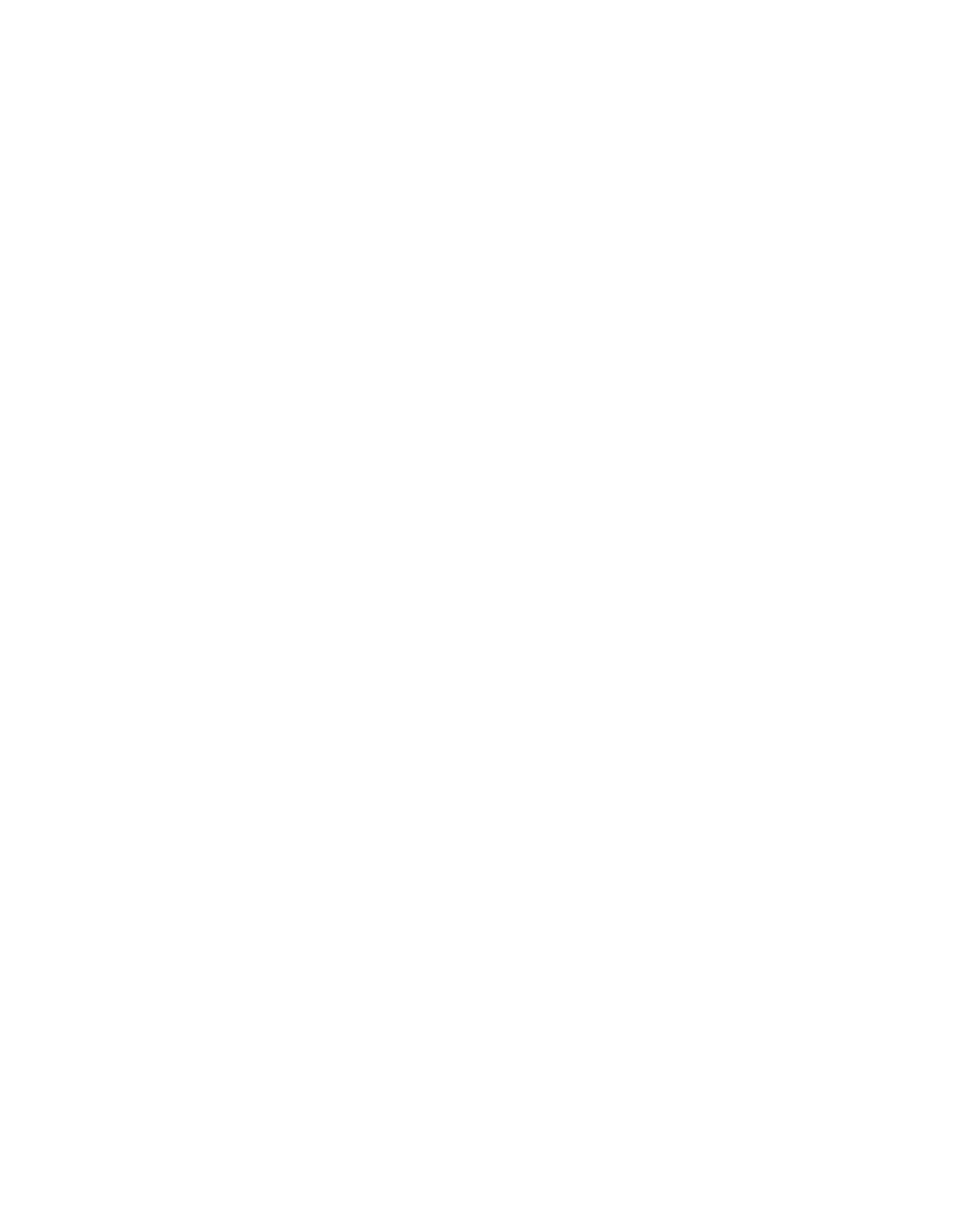
«У порога. Тишина», 1978
“
Между тем, уже в 1979 Дик создаёт литографию «У порога», вполне биографически «говорящую». Мальчик сидит на пороге, открытая дверь высветлена светом извне. Пространство по эту сторону порога дано в изобразительном плане корпусно, с повышенной тактильностью, идущей от зерни литографского камня. Перед мальчиком – за порогом – лежал мир внешний, горний – данный белым пространством нетронутого листа. Он отбрасывал на голову мальчика некий полу-нимб. Но в глубине пространства снова возникал массив черного – лес. Он знаменовал – изобразительно – возврат к реальности, к реальному пейзажу. Символически он знаменовал невозможность выхода, побега. Эта литография, при всём своем изобразительном лаконизме, была потаённо нарративна. Вот только «разговорить» её никто не хотел. Вообще, похоже, Дик любил скрытую нарративность. У него явный дар острой изобразительной характеристики – достаточно привести в качестве примера несколько работ типа «Юкин с Тимкой». В таких работах, как «Двое», «На скамье», «Больная и доктор» момент наблюденности так развит, что впору говорить о своеобразном жанризме. Что не противоречит сформулированному художником постулату «вычитания случайностей»: пластическая характерность, «ухваченность» поз и жестов вполне может обретать модус закономерности и даже формульности. Впрочем, даже когда дело дойдёт до предельной обобщенности, эта зрительная цепкость скажет своё слово: натурный план, план наблюденности, проявит себя на «вторичном уровне» – он как бы забрезжит «сквозь» формульность. А пока Дик слегка приглушает характерность – ему нужно другое: «большая форма» как выражение большой содержательной идеи.

«Одинокая фигура», 2001
“
Мне кажется, в 1980-е гг. определяются три пластические темы мироощущенческого плана. О первой – дверном проеме, вратах, вообще проходе в разных его версиях – уже говорилось выше. Вторая тема связана с композиционными поисками собственного диковского горизонта. Он использует горизонт не столько ради выявления масштабов (Хотя и этим приемом – планкой высокого и низкого горизонтов – как средством выражения эмоциональных состояний он владеет мастерски: «Одинокая фигура», «Праздник» и др. Кстати, здесь прослеживается определенная близость с «алтайскими» циклами 1930-х П.Басманова). Горизонт играет самостоятельную образную роль. Это как бы стержень сжатого, концентрированного пространства. В работе «Лампа» этот момент тематизирован: вытянутая по горизонтали пастель композиционно держится на планке горизонта, который в буквальном смысле «высвечен» посредством потолочной лампы. Таких «спрессованных» в пространственном плане вокруг горизонта вещей у Дика немало, причем горизонт – не всегда видимая линия соприкосновения тверди и неба. Его роль может играть горизонтальная тень («На берегу»), полоска фортепьянных клавиш («За игрой»), он может двоиться и троиться в отражениях («Отражение») или в предметных аналогах – силуэте лодки, очертании крыши («Отражение II», «Лунная ночь»). Он вообще может не «читаться», быть невидимым («Покинутый дом»). Однако, визуально или умозрительно, он присутствует в качестве оси некого сжатого, концентрированного пространства, «выжимки пространства» (по аналогии с цветаевским – «выжимка бессонниц»). В уже упомянутой «Лампе» возникает и третья пластическая тема, чрезвычайно важная для Дика – купол (плафон). Как правило, купольные композиции «сюжетно» завязаны на теме зонтов. Отдельные фигуры с зонтами, целые группы с зонтиками – этот предметный мотив проходит через всё зрелое творчество Дика.
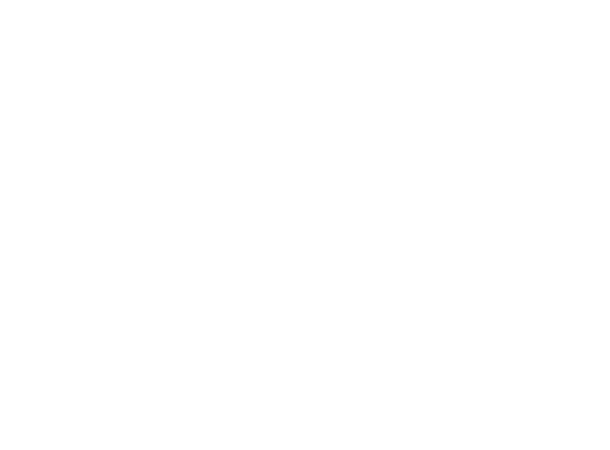
«Лампа», 1993
“
Выше уже говорилось о содержательности большого пластического мотива, которая всегда у него «стоит» за формообразованием. У этой содержательности – несколько уровней. Начну с эмоционального, мироощущенческого. Практически все пишущие о Дике отмечают «построенность» его вещей, художник и сам писал о «вычитании случайностей» как о своем кредо. Это давало повод вести истоки его творчества чуть ли не от супрематизма. Мне кажется, если уж говорить об истоках, они лежат в близких, но принципиально иных материях. Начиная с «крестьянского» цикла К. Малевича универсализм, проектность прогностического миропостроения подвергаются всё большему давлению «наличной реальности», разочаровывающей и драматичной. Особенно ощутимо это в графике 1930-х гг. А. Лепорской и особенно – Н. Суэтина. Изначальная формульность преодолевается пластичностью и эмоциональностью рисования: в идеальный мир вносятся коррективы драматизма. Дику жизнепроектирующие амбиции никогда не были свойственны, культура советского авангарда воспринималась им, как мне представляется, именно как культура формообразования. Он учился строить форму, не более того. И эмоциональная нагрузка на эту форму была у Дика своя, не имеющая ничего общего с конфликтом «мирового проекта и наличной реальности», окрасившим творчество малевичевских учеников в поздние тридцатые.
Драматизм мироощущения в работах Дика биографичен. Он постоянно разрабатывает три типа композиционности. Первый – мотивы дверных проемов, подземных переходов, горловины сосудов, вообще всякие отверстия и дыры. Второй – уже описанные метаморфозы горизонта. Третий тип – купол, «закрепленный» в соответствующем предметном ряде – зонтики, железный абажур лампы и др. (Разумеется, есть и другие композиционные архетипы – в основном, идущие от древнерусской иконографии – мотивы предстояния, шествия и пр.). За каждым типом композиционности стоит драматический опыт художника: его неудовлетворенность своим положением в мире, неуспокоенность, экзистенциальная тревога. Проем – как невозможность выхода из границ своей экзистенции, вход, подразумевающий неизбежность возвращения, тщета блужданий (удивительная работа «Ночь. Остановка» мощно репрезентирует это мироощущенческое состояние одиночества и безысходности). Горизонт во всех своих версиях знаменует напряженность, грозовую сгущенность или суженность, нестабильность пространства: горизонт уподоблен сжатой пружине, готовой распрямиться, лезвию со всеми коннотациями опасности и пр.
Драматизм мироощущения в работах Дика биографичен. Он постоянно разрабатывает три типа композиционности. Первый – мотивы дверных проемов, подземных переходов, горловины сосудов, вообще всякие отверстия и дыры. Второй – уже описанные метаморфозы горизонта. Третий тип – купол, «закрепленный» в соответствующем предметном ряде – зонтики, железный абажур лампы и др. (Разумеется, есть и другие композиционные архетипы – в основном, идущие от древнерусской иконографии – мотивы предстояния, шествия и пр.). За каждым типом композиционности стоит драматический опыт художника: его неудовлетворенность своим положением в мире, неуспокоенность, экзистенциальная тревога. Проем – как невозможность выхода из границ своей экзистенции, вход, подразумевающий неизбежность возвращения, тщета блужданий (удивительная работа «Ночь. Остановка» мощно репрезентирует это мироощущенческое состояние одиночества и безысходности). Горизонт во всех своих версиях знаменует напряженность, грозовую сгущенность или суженность, нестабильность пространства: горизонт уподоблен сжатой пружине, готовой распрямиться, лезвию со всеми коннотациями опасности и пр.

«Ночь. Остановка», 1998
“
Наконец – купол. Думаю, здесь нет никаких перекличек с чаше-купольной системой ленинградца В. Стерлигова с её направленно-сакральной укорененностью. Просто – инстинктивный поиск защиты, отгораживания, сбережения собственного пространства.
Всё это – даже не метафорика, это – простые уподобления, за которыми стоят определенные характеристики художнического сознания. Но, разумеется, этими параметрами не исчерпывается мироощущение мастера, драматичное, травмированное, но тяготеющее к стабильности и духовной ясности. «Простим угрюмство – разве это // Сокрытый двигатель его?». Эта надежда на лучшее, эта духовная просветленность – наверное, самая симпатичная сторона творческого мира Дика.
Мироощущенческие установки художника не остаются на уровне деклараций, как всегда у Дика, они реализуются с предельной живописно-пластической отдачей. Да, теперь время вести разговор о живописности.
К середине 1980-х Дик начинает работать преимущественно на наждачной бумаге. Тому были свои цвето-фактурные причины: пастель и уголь плотно и вязко «садились» на наждачную поверхность. Проявлялась своего рода зернь (как на литографском камне, но только собственной тактильной природы), цвет не забивал все поры материального плана изображения: и цвет, и его носитель, основа, - «дышали».
Но важнее было другое. Наждак, его скребущая фактура, не только, так сказать, технически, но и метафорически являет собой образ шероховатости, снятия всего внешнего, наносного. В контексте развития художника, наждак стал визуальным синонимом очищения от визуального благополучия, эстетской интонациональной уравновешенности. «На скамье», «Пейзаж с домом» - метафоры абсолютной покинутости. В первой работе эта тема задана тематически – ссутулившейся фигурой старой женщины со склоненной головой и с опущенными руками: «всё в прошлом». Но она задана и композиционно: фигура сдвинута относительно центра, линия горизонта –граница окраски стены – как бы придавливает её сверху, выталкивает из пространства: женщина не сидит на скамье, она именно приютилась, притулилась… И, наконец, тема разрешается в свете: он заливает сцену абсолютно ровно, мертвенно… В «Пейзаже с домом» нет человеческой фигуры и, соответственно, свернутой жанровости. Обобщение предельно: тяготеющая к крестообразной композиция – столбик-вертикаль, горизонталь – то ли горизонт, то ли канал с черной водой. И здесь главную роль играет цвет: он опредмечен (снег с черными точками копоти), выступает без световой линзы. Собственно, главная нагрузка на нем: это «онаждаченный», эмоционально царапающий цвет (то, что делает Дик с наждачной бумагой, перекликается с работой И. Затуловской с другими поверхностями – кровельным железом, стиральными досками и пр.: носители живописной репрезентации обладают самостоятельным образным ресурсом). Постепенно, однако, и свет, и цвет (их трудно выделять вне взаимозависимости – в конце концов, речь идёт о светосиле цвета) у Дика начинают играть иную роль. Он сам даёт этому определение: «зажатый свет». (Поразительная перекличка с метафорикой А. Вознесенского: «Можно и не быть поэтом, но нельзя терпеть, пойми, как кричит полоска света, прищемленная дверьми»). Свет у Дика часто действительно зажат, прищемлен. Но всё чаще он высвобождается. Постепенно. В «Переходе» это ещё неестественный, «бессмысленный и тусклый свет». Но постепенно этот свет, проникая в цвет и сообщая ему внутреннее свечение, обретает совсем другое образное содержание. Чаще всего он взаимодействует с белым – пастельным, не ахроматичным, а многосоставным – теплым, топлено-молочным. «На качелях», «Лежащая фигура», «Прогулка», «В поле» - звучание, мерцание белого лишены ожидаемого символического подтекста – «белые одежды» и пр. Но и бытового подтекста – простого обозначения цвета юбок и платков – явно недостаточно. Белый включает фактор времени. Пятна белого, подготовленные всем развитием цветовой гаммы, как радары, улавливающие зрительские взгляды, знаменуют собой состояния длительности, временной протяженности, готовности к метаморфозам. В «Юноше со свитком» этот хронотоп предстаёт наглядно: звучание белого подготовлено композиционно (центрированная, почти эмблематичная композиция) и колористически (последовательное высветление палитры). Но и сам белый находится в развитии: между свитком в руках юноши и его шапочкой идет какой-то взаимооборот белого, создается впечатление, что включен режим мерцания белого во времени. «За игрой» - не только мерцание белого, но и белое как прорыв в иное пространство. Раскрытые ноты, полоска клавиш – цвет работает изнутри картины вовне, фигурка играющей девочки на границе двух пространств. В этой работе, как и в нескольких других, есть знаменательный изобразительный мотив: заплетенная косичка и бантик своими очертаниями образуют крест. Не думаю, что это намек на сакральность: слишком уж «лобовой» символизм для поэтики Дика, построенной на сложных интерференциях пространства, времени, цвета и света.
Всё это – даже не метафорика, это – простые уподобления, за которыми стоят определенные характеристики художнического сознания. Но, разумеется, этими параметрами не исчерпывается мироощущение мастера, драматичное, травмированное, но тяготеющее к стабильности и духовной ясности. «Простим угрюмство – разве это // Сокрытый двигатель его?». Эта надежда на лучшее, эта духовная просветленность – наверное, самая симпатичная сторона творческого мира Дика.
Мироощущенческие установки художника не остаются на уровне деклараций, как всегда у Дика, они реализуются с предельной живописно-пластической отдачей. Да, теперь время вести разговор о живописности.
К середине 1980-х Дик начинает работать преимущественно на наждачной бумаге. Тому были свои цвето-фактурные причины: пастель и уголь плотно и вязко «садились» на наждачную поверхность. Проявлялась своего рода зернь (как на литографском камне, но только собственной тактильной природы), цвет не забивал все поры материального плана изображения: и цвет, и его носитель, основа, - «дышали».
Но важнее было другое. Наждак, его скребущая фактура, не только, так сказать, технически, но и метафорически являет собой образ шероховатости, снятия всего внешнего, наносного. В контексте развития художника, наждак стал визуальным синонимом очищения от визуального благополучия, эстетской интонациональной уравновешенности. «На скамье», «Пейзаж с домом» - метафоры абсолютной покинутости. В первой работе эта тема задана тематически – ссутулившейся фигурой старой женщины со склоненной головой и с опущенными руками: «всё в прошлом». Но она задана и композиционно: фигура сдвинута относительно центра, линия горизонта –граница окраски стены – как бы придавливает её сверху, выталкивает из пространства: женщина не сидит на скамье, она именно приютилась, притулилась… И, наконец, тема разрешается в свете: он заливает сцену абсолютно ровно, мертвенно… В «Пейзаже с домом» нет человеческой фигуры и, соответственно, свернутой жанровости. Обобщение предельно: тяготеющая к крестообразной композиция – столбик-вертикаль, горизонталь – то ли горизонт, то ли канал с черной водой. И здесь главную роль играет цвет: он опредмечен (снег с черными точками копоти), выступает без световой линзы. Собственно, главная нагрузка на нем: это «онаждаченный», эмоционально царапающий цвет (то, что делает Дик с наждачной бумагой, перекликается с работой И. Затуловской с другими поверхностями – кровельным железом, стиральными досками и пр.: носители живописной репрезентации обладают самостоятельным образным ресурсом). Постепенно, однако, и свет, и цвет (их трудно выделять вне взаимозависимости – в конце концов, речь идёт о светосиле цвета) у Дика начинают играть иную роль. Он сам даёт этому определение: «зажатый свет». (Поразительная перекличка с метафорикой А. Вознесенского: «Можно и не быть поэтом, но нельзя терпеть, пойми, как кричит полоска света, прищемленная дверьми»). Свет у Дика часто действительно зажат, прищемлен. Но всё чаще он высвобождается. Постепенно. В «Переходе» это ещё неестественный, «бессмысленный и тусклый свет». Но постепенно этот свет, проникая в цвет и сообщая ему внутреннее свечение, обретает совсем другое образное содержание. Чаще всего он взаимодействует с белым – пастельным, не ахроматичным, а многосоставным – теплым, топлено-молочным. «На качелях», «Лежащая фигура», «Прогулка», «В поле» - звучание, мерцание белого лишены ожидаемого символического подтекста – «белые одежды» и пр. Но и бытового подтекста – простого обозначения цвета юбок и платков – явно недостаточно. Белый включает фактор времени. Пятна белого, подготовленные всем развитием цветовой гаммы, как радары, улавливающие зрительские взгляды, знаменуют собой состояния длительности, временной протяженности, готовности к метаморфозам. В «Юноше со свитком» этот хронотоп предстаёт наглядно: звучание белого подготовлено композиционно (центрированная, почти эмблематичная композиция) и колористически (последовательное высветление палитры). Но и сам белый находится в развитии: между свитком в руках юноши и его шапочкой идет какой-то взаимооборот белого, создается впечатление, что включен режим мерцания белого во времени. «За игрой» - не только мерцание белого, но и белое как прорыв в иное пространство. Раскрытые ноты, полоска клавиш – цвет работает изнутри картины вовне, фигурка играющей девочки на границе двух пространств. В этой работе, как и в нескольких других, есть знаменательный изобразительный мотив: заплетенная косичка и бантик своими очертаниями образуют крест. Не думаю, что это намек на сакральность: слишком уж «лобовой» символизм для поэтики Дика, построенной на сложных интерференциях пространства, времени, цвета и света.
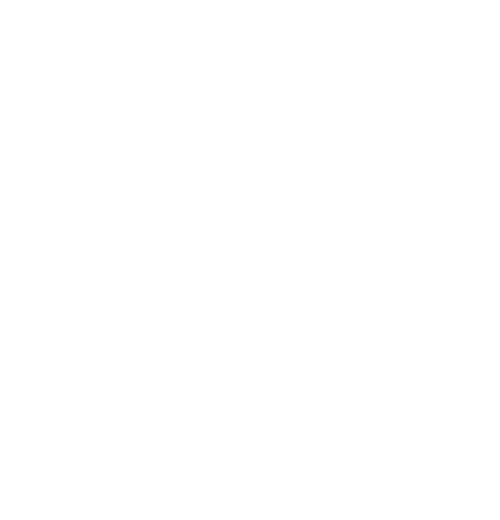
«Двое VI», 2000
“
Кстати, возвращаясь к хронотопу, он «включен» уже не только по отношению к белому. Красный, оранжевый, желтый («Двое VI») так же работают волнами, во временном режиме мерцания. Здесь так же есть мотив креста – вертикаль девичьей косы и горизонтальный штрих бантика, но тема инобытия задана, прежде всего, этим временным маятником: уходом-возвращением цветовой волны. «На праздник» - трансформация вечного мотива шествия: полоска людей-столбиков или, скорее, разноцветных свечек, у каждой фигурки – свое свечение. Эта цепочка людей пробирается по нижнему краю огромной, вбирающей различные свето-цветовые потоки плоскости – неба, декорации, стены? Но ощущения подавленности (всё-таки – вопиющий контраст масштабов) нет вовсе. Эта стена проходима, люди-свечки (метафоры духовного свечения) могут проникнуть за неё и могут вернуться. И свечки не будут затушены, язычки пламени сохранятся. Несколькими годами ранее Дик напишет работу «Ночь. Остановка»: там желтая стена знаменовала собой взаимоотчужденность героев и абсолютную невозможность выхода – как в прямом, так и в метафорическом смысле. Мироощущенческий контраст между этими произведениями разителен.
Что ж, Дик прошел большой путь. В работах последних его лет сюжетные и предметные ситуации не равны себе, главным их содержанием становится присутствие инобытия. И это присутствие – не враждебно, оно вселяет надежду.
Если отвлечься от цеховых и прочих (официальное-неофициальное) перегородок, становится очевидным – Петр Дик принадлежит к числу классиков т.н. метафизического направления, одного из самых интересных в нашем искусстве (Д.Краснопевцев, М.Шварцман, Э.Штейнберг). И это вовсе не некое «повышение в ранге». В чем - в чем, а в этом П. Дик и при жизни не нуждался. Просто этот метафизический план отчетливо считывается в его изобразительных вратах и дверях, проходах и тупиках, согбенных и распрямившихся фигурах, в сгустках тьмы и цветовых свечениях. Дик остался таким, каким он был. Это метафизическое направление приросло Диком.
Что ж, Дик прошел большой путь. В работах последних его лет сюжетные и предметные ситуации не равны себе, главным их содержанием становится присутствие инобытия. И это присутствие – не враждебно, оно вселяет надежду.
Если отвлечься от цеховых и прочих (официальное-неофициальное) перегородок, становится очевидным – Петр Дик принадлежит к числу классиков т.н. метафизического направления, одного из самых интересных в нашем искусстве (Д.Краснопевцев, М.Шварцман, Э.Штейнберг). И это вовсе не некое «повышение в ранге». В чем - в чем, а в этом П. Дик и при жизни не нуждался. Просто этот метафизический план отчетливо считывается в его изобразительных вратах и дверях, проходах и тупиках, согбенных и распрямившихся фигурах, в сгустках тьмы и цветовых свечениях. Дик остался таким, каким он был. Это метафизическое направление приросло Диком.